А у нас всегда война? Часть одиннадцатая (эпилог)
 inkogniton — 08.04.2022
Иерусалимский университет разбросан по всему городу, он разделен на
три основных кампуса: один расположен на горе Скопус -- там
сосредоточены гуманитарные факультеты; факультеты, посвященные
социальным наукам, факультет юриспруденции, а также
подготовительные программы для израильских и иностранных студентов,
и одна из самых знаменитых школ искусств. Второй расположен в
районе под названием Гиват Рам -- там сосредоточены все
естественные и точные науки, там также находится факультет геологии
и одна из самых больших научных библиотек. Третий -- посвященный
практически целиком и полностью медицинскому факультету и его
товарищам (к примеру, фармакологии) -- находится в невероятно
живописном месте, называющимся Эйн Карем. Более того, у
Иерусалимского университета есть даже небольшой кампус далеко от
Иерусалима -- в Реховоте, почти в центре страны, рядом с одной из
больниц, официально приписанной к Иерусалимскому университету --
там готовят медсестер.
inkogniton — 08.04.2022
Иерусалимский университет разбросан по всему городу, он разделен на
три основных кампуса: один расположен на горе Скопус -- там
сосредоточены гуманитарные факультеты; факультеты, посвященные
социальным наукам, факультет юриспруденции, а также
подготовительные программы для израильских и иностранных студентов,
и одна из самых знаменитых школ искусств. Второй расположен в
районе под названием Гиват Рам -- там сосредоточены все
естественные и точные науки, там также находится факультет геологии
и одна из самых больших научных библиотек. Третий -- посвященный
практически целиком и полностью медицинскому факультету и его
товарищам (к примеру, фармакологии) -- находится в невероятно
живописном месте, называющимся Эйн Карем. Более того, у
Иерусалимского университета есть даже небольшой кампус далеко от
Иерусалима -- в Реховоте, почти в центре страны, рядом с одной из
больниц, официально приписанной к Иерусалимскому университету --
там готовят медсестер.Пока я училась на подготовительном курсе я, естественным образом, жила и работала в кампусе на горе Скопус. Однако, когда я поступила, я переехала в другой кампус -- в Гиват Рам. История моего поступления и смены факультетов не то чтобы длинная, но и в двух словах ее не расскажешь. В конечном итоге, благодаря моему великолепному преподавателю математики -- Тами, с которым меня свела судьба на подготовительной программе и с которым мы общались очень много лет после, я оказалась на спаренной программе -- математика и компьютерные науки. Именно Тами дал мне то, чего мне не дал ни один человек, пытавшийся научить меня математике. В диссертации, на первой странице, я написала ему сердечную благодарность; я написала, что я благодарна ему не за то, что он научил меня математике, но за то, что научил меня ее любить. До сегодняшнего дня я благодарна ему за всё то время, которое он тратил на всех нас и на меня в частности -- на лекциях и вне их, во время приемных часов и во время обеда. Где бы он ни был, вокруг него собиралась стайка студентов, он доставал свои цветные фломастеры, усиленно шевелил пальцами, изображая трехмерное пространство, и пытался объяснять так, чтобы было понятно даже детям. Помимо него, было еще два человека, с которыми я много лет общалась уже после того, что окончательно променяла гору Скопус на Гиват Рам -- наша главный администратор, Лена, и преподаватель английского -- Инна. Я приезжала к Лене достаточно часто -- просто поделиться переживаниями, рассказать об учебе, о жизни, о работе. Ее кабинет находился в одном из самых новых зданий этой части университета, недалеко от школы искусств. Я приезжала к ней, аккуратно стучала в двери и, что бы она ни делала в этот момент, она бросалась ко мне с объятиями, мы садились, говорили, смеялись и, конечно же, ходили вместе обедать -- в новую прекрасную столовую, находящуюся совсем неподалеку.
Целый год после того, как я переехала в Иерусалим, было относительно тихо. Почти замолкли взрывы, почти исчезли нападения с ножами и прочим, по телевизору шли обычные новости, в которых рассказывали об экономике, о жизни вне Израиля, о погоде и спорте. Жизнь вошла в обычную колею. Но о войне не забыли, нет. Она присутствовала незримо, она ощущалась в воздухе, словно каждый следующий день без нее был просто случайным подарком, ровно до того момента, пока она не проявит себя во всю свою мощь -- так, что никому не удастся ни ускользнуть, ни спрятаться. Это ощущение не покидало почти ни на мгновение, но жизнь шла своим чередом и мы все занимались своими делами как только могли. Я спешила жить, я очень торопилась, словно боялась не успеть, боялась пропустить что-то важное -- такое, которое потом не догонишь и не найдешь. Я влюблялась сто раз на дню, сходилась и расходилась, я ходила в бары, на дискотеки, на концерты, я танцевала до упаду и, самое главное, я много смеялась. Ни тогда, ни сейчас, я не останавливала жизнь, но напротив спешила жить ее так полно, как только могла.
В начале двухтысячных мы поняли, что это действительно была передышка, что нам дали возможность вздохнуть, но эта возможность была так коротка, что мы даже не успели оглянуться. Новости о взрывах, погибших и раненых начали появляться с пугающей частотой, взрывали всё, что могли. Страна оплакивала детей, которые пошли на дискотеку -- им хотелось жить, танцевать, флиртовать, -- им хотелось быть обычными подростками, но дискотека прервалась взрывом, и многие подростки, которые просто хотели жить, так и остались лежать на холодном, грязном полу зала. Я не могла слушать новости, они сводили с ума, я перестала следить за чем бы то ни было, но именно тогда в Иерусалим пришла война. Она пришла в виде многочисленных взрывов и нападений. Мой телефон звонил не переставая, он звонил и звонил, и конца этому было не видно. Иногда я выбегала из душа, так как понимала, что если телефон звонит так настойчиво, то значит требует ответа. Боже мой, -- кричала мама в трубку, -- где ты, я схожу с ума! Я еще не знала что случилось, но уже точно знала, что в моем, в моем! Иерусалиме опять, скорее всего, погибли люди, опять кто-то скорбит, опять у кого-то разрушена жизнь и вряд ли восстановится. Мама, -- отвечала я со смехом, пытаясь успокоить по мере сил, -- ты же знаешь, я только учусь и живу, я нигде не бываю! Вообще нигде! И потому, -- смеялась я, пытаясь перебить ее панику и ужас смехом, -- пока по телевизору не сообщили, что произошел теракт в лично моем доме или в университете, можешь совершенно не беспокоиться! Ты скажешь, -- нервно выдыхала мама, но я слышала как она успокаивается, -- не беспокоиться! Как я могу не беспокоиться?! Ты можешь мне, пожалуйста, -- начинала она нервно смеяться и я знала, что основной испуг прошел, теперь остаточные явления, -- объяснить как я могу не беспокоиться?! Очень просто, -- твердила я раз за разом, -- меня там нигде нет, вообще никогда, честное слово, я тебе обещаю!
Это было почти чистой правдой -- если я и выходила куда-то, то только по вечерам, а террористы, в большинстве своем, отрабатывали дневные смены, по вечерам же, видимо, отдыхали. Не волнуйся, мама, -- отвечала я на очередной звонок, вырвавший меня с лекции, -- я на лекции, я в порядке, я перезвоню чуть позже и ты мне расскажешь что произошло, ладно? Мама немедленно соглашалась, выдыхала, и позже, много позже, звонила исключительно для того, чтобы рассказать, срываясь на плач, что в очередной раз погибли люди, в очередной раз разрушились жизни, в очередной раз нам напомнили о том, что у нас всегда, совершенно всегда, война.
Я училась, работала и жила. К тому времени я нашла много других работ -- к примеру, я преподавала на курсах, готовивших будущих претендентов к самому страшному экзамену: к психометрическому тесту. Его боялись все, кто пытался поступать учиться. Это был невероятно длинный, выматывающий экзамен. Он длился около четырех или пяти часов, в нем не было перерывов (можно было выйти, конечно, но наверстать упущенное время не представлялось возможным), его боялись как огня, но готовились усердно, понимая, что от его результатов зависит их дальнейшая жизнь. Я ездила по разным концам Иерусалима и преподавала в разных группах -- я была невероятно довольна и не думала ни о взрывах, ни о терактах. Со мной больше ничего не случится, весело думала я, со мной уже случилось на три жизни вперед. Теперь всё. Я категорически отказывалась бояться, отказывалась прерывать жизнь, отказывалась корректировать планы. Мама звонила очень часто -- взрывы и нападения продолжались, ей было страшно, и конца этому не было. Я успокаивала как могла, повторяла раз за разом, что лично мне ничего не грозит и шутила как только могла. Мама успокаивалась, брала с меня честное слово быть предельно осторожной, и тогда, наконец, мы начинали говорить о чем угодно другом.
В самый первый год я вернулась на лето в родительский дом. Я давно жила одна, снимала собственное жилье, я начала жить сама практически сразу после возвращения из киббуца, мне едва исполнилось восемнадцать, когда я сняла свое первое жилье и начала самостоятельную жизнь. Но тогда, после подготовительной программы, мама очень просила вернуться к ним, пожить с ними немного и только после этого снова с головой окунуться в жизненный водоворот. Тогда я отказалась от летнего общежития и жила с родителями два месяца. Иногда мне кажется, что это были последние два месяца моего детства. После же я оставалась в общежитии даже на лето -- у меня была работа, учеба, я могла позволить себе приехать на выходные, но никак не могла позволить уехать на несколько месяцев от основной жизни. Потому я оставалась в Иерусалиме, мама же продолжала звонить и кричать в трубку, пытаясь понять жива я или нет.
В один прекрасный летний день я в очередной раз поехала к Лене -- я давно ее не видела, я соскучилась, мне не терпелось похвастаться, рассказать последние сплетни и просто ее увидеть. Я зашла в ее кабинет, мы обнялись и немедленно пошли обедать. Мы сидели в нашей почти новой, почти с иголочки, столовой, ели и болтали. Мы сидели там около часа, после Лена сказала, что ей надо срочно бежать, у меня тоже были дела и я собралась ехать домой. Мы тепло попрощались, она вернулась к себе кабинет, я же пошла на остановку. Я стояла на остановке, я наслаждалась приятным ветерком, я незаметно смотрела по сторонам, пытаясь понять разделяет ли хоть кто-нибудь мое счастье -- безусловное, возникшее из ниоткуда, счастье жизни. Я стояла и ждала автобуса, когда услышала будто хлопок -- не рядом, но неподалеку. Я бросилась через дорогу -- там было студенческое кафе, там была толпа и они, мне казалось, могли рассказать мне о том, что происходит. Я добежала и увидела побледневших студентов, они суетливо платили за кофе, они пытались выйти на улицу, пытались понять что происходит. Через несколько минут я услышала о взрыве в столовой -- той самой, в которой мы только что сидели с Леной, только что обсуждали планы на лето, планы на жизнь, только что смеялись и ели запеченную курицу с хумусом и салатами. Война пришла в университет и мне было нечего сказать маме.
Впервые в жизни мне стало очень страшно. Мне стало так страшно, что мне было нечем дышать. Мне стало страшно -- я была не там, я была уже далеко, но мне казалось, что если бы я была там, мне бы не было так страшно. Я села на ступеньки кафе и расплакалась. Я плакала и кричала и не могла остановиться. Вокруг стояли побледневшие люди, они припали к большому экрану телевизора и пытались понять что происходит. Звук сирен заполнил всё пространство -- не было слышно ничего, кроме сирен. Мчались кареты скорой помощи, мчались полицейские машины, движение остановилось, я же сидела, плакала и не могла остановиться. Мне звонила мама, раз, другой, третий, я не отвечала -- я не могла ответить, так как она сразу бы поняла, что я где-то рядом, но со мной всё было в порядке и мне, почему-то, было невероятно стыдно. Стыдно, что я успела уйти раньше, что успела пообедать, успела продолжить жить. Я плакала на ступеньках, мимо меня проходили люди, они сдерживали слезы, они кивали мне участливо, давая понять, что они со мной, что они точно знают что стоит за моими слезами. Я не знаю сколько я сидела, время замерло, оно висело в воздухе -- именно потому, что меня там не было. Я сидела, не в силах подняться, не в силах продолжать жизнь. Но я была жива, жива и цела, а это значило, что жизнь продолжается, как бы ужасно это ни звучало. Я прекратила плакать, поднялась и пошла на остановку -- не ту, которая была поблизости, но ту, которая была значительно дальше -- туда, где ходили автобусы, несмотря и вопреки.
Я села в автобус и позвонила маме. Теракт в университете, -- задыхалась мама, -- теракт в университете, а ты сказала, ты говорила, что если у тебя дома, а университет это же как дом, скажи что-нибудь, пожалуйста, скажи, -- кричала мама бессвязно и сдерживала слезы. У меня всё в порядке, -- начала я спокойно, -- это совсем в другой части университета, честное слово, той, в которой я почти не бываю. Мама хотела деталей, мама хотела рассказать что там произошло, но на меня навалилась усталость, я не хотела этого слышать, я хотела доехать до своей комнаты, доехать и лечь в кровать.
-- Слушай, -- спросил меня как-то напарник, с которым я работала в патруле, -- как здесь вообще можно жить? Это же ужас!
Был он недавно приехавшим репатриантом, рассуждающим ночи напролет о том, как заработает денег, выучится и уедет из этой богом забытой страны.
-- Очень просто, -- сказала тогда я, немного обдумав, -- ты понимаешь, -- я пыталась подобрать самые верные слова, -- у нас очень маленькая, совсем маленькая, вечно воюющая страна. У нас не очень хорошая экономика, у нас теракты и войны, войны и теракты, -- я замолчала, пытаясь сформулировать мысль, когда поняла, что мне не надо формулировать, оно на поверхности, так как является единственной правдой, -- здесь можно жить только если очень ее любить. Очень.
А у нас всегда война?
Наверное, да. Но мы никогда не ставим точку, только ставим запятую -- порой, в отчаянии, но, главное, в надежде,
Сохранено
|
|
</> |
А у нас всегда война? Часть одиннадцатая (эпилог)
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
04.04.2022 —
А у нас всегда война? Часть седьмая
01.04.2022 —
А у нас всегда война? Часть третья
31.03.2022 —
А у нас всегда война? Часть вторая
25.03.2022 —
Без названия
24.03.2022 —
Йо-йо
16.03.2022 —
Без названия
14.03.2022 —
Без названия
10.03.2022 —
Без названия
07.03.2022 —
Без названия
Архив записей в блогах:
По существу это пригороды Красноярска, в большинстве своём садоводства и такой я смотрю за окно поезда, а потом перевожу взгляд на свои летние кроссовки в которых еду в Иркутск))) Кое как смог переконвертировать в приемлемом качестве видео с фотоаппарата, ютуб не требует какой либо ...
Гончар сегодня был в радио эфире. Честно-честно, в гостях у andry_astashkin ! Целый час я излучал на просторы эфира безграничную терпимость и толерантность, защищал гомосексуалистов, коммунистов, монахов, pussy riot, Кураева и даже интернет-троллей ...
Недавно с телефоном началась неразбериха. Заряжаться стал плохо. Шнур от зарядки не держится, контакт плохой. И зарядка превратилась в муку. Положил телефон, и стараешься не ходить рядом, чтобы не отключилась зарядка.
Терпеть это не представлялось уже возможным. И решил я заглянуть в ...
Выживший. Кино посмотрел, "Выживший". Под катом краткая рецензия. Беспрерывное ползание по снегу с похрюкиванием и шёпотом от видений. Психоделическая музыка из дешёвого сериала. Костры без дров, размером двадцать на двадцать сантиметров в пяти метрах от спящего на снегу. Свободное ...

 Аппаратная замена масла в автомобиле: преимущества вакуумной технологии над традиционными методами
Аппаратная замена масла в автомобиле: преимущества вакуумной технологии над традиционными методами  В книжный в доме 24/43 шоссе Энтузиастов мы ходили очень
В книжный в доме 24/43 шоссе Энтузиастов мы ходили очень  Ответ за Новороссийск, Олена и Мелания, пытка Сердючкой: утренний кофе с EADaily
Ответ за Новороссийск, Олена и Мелания, пытка Сердючкой: утренний кофе с EADaily  дайте внукам пожить
дайте внукам пожить  Южная Африка: Саймонс Таун (город, пляжи с пингвинами)
Южная Африка: Саймонс Таун (город, пляжи с пингвинами)  А из нашего окошка
А из нашего окошка  Торт для герцога Кентского
Торт для герцога Кентского 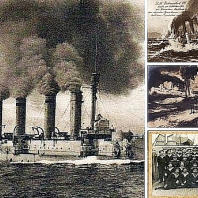 28 сентября/11 октября 1914 г. Гибель «Паллады»
28 сентября/11 октября 1914 г. Гибель «Паллады»  Недолго музыка играла?
Недолго музыка играла? 



