Об устойчивости и гнилости социальных систем – или еще раз о динамике катастроф
 anlazz — 02.11.2018
В прошлом посте, посвященном причинам популярности алармизма среди
российских левых, был затронут вопрос о том, насколько подобные
(алармистские) ощущения адекватны реальности. То есть – насколько
уверенность в том, что «рашка все» - может быть связана с
действительным положением страны. Поскольку, например, в те же 1990
годы – когда российское «левое движение» формировалось –
существовало немало моментов, вроде бы, подтверждающих идею
близкого «конца режима». Правда, «режим» прекрасно просуществовал
все это время – несмотря на полную неадекватность «высшего лица» (а
точнее, высших лиц), массовое обнищание населения и полную
деградацию хозяйственной сферы. Уже один указанный факт – то есть,
что, что Россия пережила период ельцинизма – прекрасно показывает,
что действительное поведение социальных систем крайне
контринтуитивно.
anlazz — 02.11.2018
В прошлом посте, посвященном причинам популярности алармизма среди
российских левых, был затронут вопрос о том, насколько подобные
(алармистские) ощущения адекватны реальности. То есть – насколько
уверенность в том, что «рашка все» - может быть связана с
действительным положением страны. Поскольку, например, в те же 1990
годы – когда российское «левое движение» формировалось –
существовало немало моментов, вроде бы, подтверждающих идею
близкого «конца режима». Правда, «режим» прекрасно просуществовал
все это время – несмотря на полную неадекватность «высшего лица» (а
точнее, высших лиц), массовое обнищание населения и полную
деградацию хозяйственной сферы. Уже один указанный факт – то есть,
что, что Россия пережила период ельцинизма – прекрасно показывает,
что действительное поведение социальных систем крайне
контринтуитивно.То есть, попытки объяснить – а уже тем более, промоделировать – их особенности, опираясь на привычные, «обыденные» принципы, всегда будет терпеть неудачу. Поскольку «большие социумы» и их свойства определяется совершенно иными законами, нежели то, с чем обычно приходится иметь дело человеку. И это, кстати, касается не только ошибочности представления о том, что если в государстве царит коррупция верхов и нищета низов, то оно завтра рухнет. Но и ошибочности идеи о том, что если внешне все обстоит весьма благопристойно, чернь шапку ломает перед господами и готова умереть за царя-батюшку, то данное царство будет продолжаться вечно. (О данном моменте будет сказано несколько ниже.) Поскольку на самом деле большая часть внешних признаков и «катастрофы», и «благоденствия» к реальному состоянию социальных систем не имеют никакого отношения.
* * *
Для примера можно взять ту же Российскую Империю – которая, по сути, в свое время отлично продемонстрировала ошибочность представлений и о гнилости, и об устойчивости. Поскольку – если говорить о первом качестве, т.е., о том, что российская государственная машина давно уже находится «при смерти» - то это признавалось многими еще в середине XIX столетия. Уже тогда разложение созданного Петром «дворянского государства» было достаточным: и в плане того, что получившие от Екатерины «волю» дворяне очень быстро мутировали в чистых паразитов-крепостников, проводящих все свои дни в поместьях, вместо государственной службы. И в плане того, что даже находящиеся на данной службе субъекты все больше заботились о том, чтобы набить собственный карман – вместо выполнения своих функций. В конце концов, знаменитая сатира Гоголя – скажем, «Ревизор» или «Мертвые души» - в то время воспринималась исключительно, как реалистическое изображение царящих нравов. (Настолько, что ее даже не пытались запретить – как это обыкновенно делали с сатирическими произведениями «на русскую действительность». )
То есть, показанные Гоголем «особенности русского бытия» (не только в указанных произведениях, но и вообще, во всем его творчестве) были очевидны всем – включая Николая I. Впрочем, что тут говорить о Гоголе, если сам этот царь известен, как автор фразы: «В России только два человека не воруют - ты и я». (Сказано было наследнику престола.) Так что Николай Павлович мог только приветствовать сатирические обличения российских «безобразий» - в том смысле, что как раз борьба с ними была для данного правителя смыслом жизни. Правда, борьба безуспешная – поскольку сама существующая система «сословного государства» с «освобожденным дворянством» не могла существовать иначе. Тем не менее, Российская Империя пережила Николая I, потом Александра II, Александра III – и даже Николаю II удалось проправить еще целых 23 года. В государстве, которое, как уже было сказано, даже для современников совершенно очевидно находилось в крайне критичной ситуации.
Более того, за это время Российская Империя успела провести несколько войн, закончившихся более или менее успешно, ликвидировать крепостничество (правда, по самому неудачному варианту), построить железные дороги и создать несколько «индустриальных производственных ядер». (Петербург, Варшава, Москва, Донбасс и т.д.) Которые, в свою очередь, стали «зародышами» будущего существования страны. Более того, за это время была создана знаменитая русская классическая литература, русская классическая живопись и не менее классическая музыка, начато создание русской научной и инженерной школы. В общем, совершались славные и крайне необходимые для будущего дела, без которых не было бы последующего советского взлета. И одновременно с этим – шло действительно катастрофическое обнищание крестьян, развал традиционного крестьянского хозяйства, страну накрывали волны голода... Впрочем, все было неизбежным для перехода к индустриальной форме производства – но менее страшным от этого не становилось. И, разумеется, указанная выше болезнь в виде «воровства» - т.е., коррупции, пронизывающей всю государственную машину –не только не исчезла, но продолжала нарастать. Особенно после того, как в Россию начал активно приходить иностранный капитал…
* * *
То есть, российское государство XIX столетия было одновременно и «гнилым», и «плодоносящим». И хотя, конечно, «конец был немного предсказуем» - то есть, закончилось все именно разрушением Российской Империи и всеобщей Революцией – но произошло это только через много десятилетий после того, как «гнилость режима» стала очевидной для большинства. Так что –особенно, если сравнивать Российскую Империю XIX века с окружающими ее европейскими государствами – то можно только поражаться ее устойчивости. Скажем, Франция, Германия, Италия, и, в какой-то мере, Австрия переживали в указанное время множество революций и трансформаций, меняя конфигурацию европейского пространства. (О Балканах и говорить нечего: пороховая бочка – она пороховая бочка.) А Россия стояла, как скала – настолько, что даже русские революционеры, в общем-то, не верили в свою скорую победу. (Подумать только – они убили российского царя, и… И, собственно, ничего не произошло, за исключением усиления репрессий и уменьшения свобод.)
После всего сказанного мало кого может удивить та метафора Российской Империи, которая господствовала в общеевропейском общественном сознании вначале Первой Мировой войны – а именно, «русский паровой каток». (Которая была настолько актуальной, что даже Германский гентаб, по существу своему, не считал возможным вести против России «тотальную войну» - надеясь на подписание мира после поражения Франции.) Поэтому, кстати, любые указания на то, что российское революционное движение было «проектом» то ли указанного Генштаба, то ли Британской разведки, на самом деле выступают лишь «позднейшим продуктом». (Ведя свою родословную от пропагандистских домыслов времен Первой Мировой, и особенно, от домыслов времен пропагандисткой борьбы «послефевральского периода».) Поскольку, на самом деле, даже после революции 1905 года вряд ли кто в Европе мог очевидно ожидать падения российской монархии. (Точнее сказать, 1905 год для обыденного сознания даже укрепил ее образ, показав, что – в отличие от Европы, где короли легко менялись на республику и обратно – русский царь имеет механизмы по подавлению народных выступлений.)
Собственно, именно поэтому для подавляющего большинства и жителей страны – ну, тех, кто хоть как-то следил за политическими событиями – и для зарубежных наблюдателей оказалась странной та потрясающая легкость, с которой произошла Революция 1917 года. И февральская ее часть – что породило известную идею о «заговоре, который пронизывал весь высший аппарат Империи». (Хотя на самом деле, реальной причиной данных событий был вовсе не заговор – а тот факт, что войска в Петербурге прямо отказались подчиняться своему руководству. Именно это заставило генералов требовать у императора отречения – а последнего подписать его на станции Дно. Поскольку иначе не было гарантии, что на следующем железнодорожном разъезде царский поезд просто остановят, и… ну, а там могли быть любые варианты.) И октябрьская – которая, впрочем, вообще оставила всех в недоумении. (Настолько, что даже идеи о «германском генштабе» появились позже – ко временам подписания Брестского мира.) В любом случае, можно сказать, что падение российской монархии оказалось событием более, чем неожиданным – несмотря, как уже было сказано, на то, что все «формальные» составляющие этого падения существовали задолго до этого.
* * *
Собственно, даже революционеры в своем большинстве – то есть, те люди, которые, по сути, и вели колоссальную работу по приближению данного момента – оказались неспособными предсказать его начало. Скажем, Ленин – несмотря на создание своей «теории слабого звена» - за месяц до Февраля высказывался о его вероятности довольно скептически. «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции.» Хотя, еще раз, сам же Владимир Ильич доказал, что именно во время Мировой войны должен лопнуть «нарыв» классового общества, и более того, что случиться это должно быть именно в России. Но полученные «научные выкладки» - это одно, а личные ощущения – это другое.
Тем не менее, оказался правым именно Ленин-ученый, Ленин-специалист по социальной динамике – который смог увидеть то, что не видел не только «простой обыватель», но даже вовлеченный в политическую деятельность революционер-практик. Наверное, именно после этого Владимир Ильич понял мощь своего теоретического аппарата – что, впоследствии, позволило ему совершить еще более невероятные деяния, став во главе зарождения нового государства и проведя его через самые невозможные ситуации. Впрочем, это – т.е., ленинская политика после Февраля – тема уже совершенно иного разговора. Тут же, завершая сказанное выше, стоит указать только на то, что, после Революции 1917 года и «вскрытых» ей особенностях социального развития, возвращаться к «обывательскому представлению» о поведении обществ выглядит колоссальной глупостью.
Но что есть – то есть: десятилетия существования в условиях «безопасного общества» не прошли даром. (В том смысле, что в эти времена наличие объективных социодинамических представлений не было актуальным – поскольку, во-первых, общество было стабильным, а, во-вторых, жизнь индивида была слабо зависимой от любых обстоятельств.) Так что нам придется заново учиться понимать реальность. К счастью, благодаря огромной работе, сделанной предками, начинать тут можно не с нуля – однако даже в данном случае придется сделать огромный «скачок», связанный с отказом от «обыденного мышления».
Но, разумеется, все это – вопросы уже отдельной темы…

|
|
</> |

 Тонкости создания эффективных карточек товаров для маркетплейсов
Тонкости создания эффективных карточек товаров для маркетплейсов 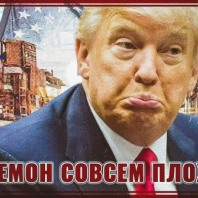 Кирдык США и именно в 2025 году.
Кирдык США и именно в 2025 году.  Ипытания
Ипытания  Баклажаны по-грузински
Баклажаны по-грузински  А если вдруг отключат интернет?
А если вдруг отключат интернет?  Рассказ британца на Украине: «Я сам убил двух российских солдат...»
Рассказ британца на Украине: «Я сам убил двух российских солдат...»  NED приостанавливает работу
NED приостанавливает работу  COVID-19. Что получилось и что не получилось. Часть 2 – больные и заразные
COVID-19. Что получилось и что не получилось. Часть 2 – больные и заразные 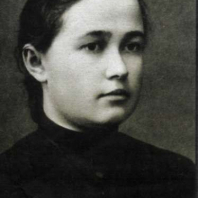 Борис Мышлявцев. Распад Китая: угрозы и возможности (2)
Борис Мышлявцев. Распад Китая: угрозы и возможности (2) 



