Смирение, или Как сделать молитву эффективной
 palaman — 06.05.2023
Эта заметка относится к циклу Умное делание для мирян
palaman — 06.05.2023
Эта заметка относится к циклу Умное делание для мирянОснова научного мышления — философия, согласно которой "будущее вытекает из прошлого", что даёт нам возможность прогнозировать будущее на основании опыта прошлого. (А это и есть уже собственно наука.)
При этом как раз в опыте прошлого у нас немало примеров, когда появлялись принципиально новые вещи и явления, которых не было прежде. А следовательно, философия науки парадоксальна, впрочем, как и любая хорошая философия.
Однако для эффективной молитвы нам нужна иная философия. Ведь если будущее вытекает из прошлого, то молиться просто нет смысла.
В самом деле, Христос учит нас, что сила/слабость молитвы определяется верой/неверием молящегося в то, что его молитва исполнится. Более того, в пример действия веры Христос приводит даже не молитву, а прямой приказ горе "Перейди отсюда туда" — уверяя нас, что если человек не усомнится в сердце своём, то будет всё, что он ни скажет.
Вопрос в том, где взять такую веру. Чем несомненная вера отличается от знания? тем, что знание относится к прошлому, а вера — к будущему. Любой "неверующий" опирается именно на веру, когда строит планы на будущее. Отправляясь в магазин, человек верит, что вернётся оттуда с необходимым товаром: не имея такой веры, он бы в магазин просто не пошёл, ибо зачем? Но будущего мы не знаем, а именно верим в него, выстраивая нашу веру на... на самых разных основаниях (например, на доверии к словам близких), и самым прочным из этих оснований является знания прошлого опыта, то есть, эта самая наука — философия, согласно которой "будущее вытекает из прошлого".
Но если мой прошлый опыт однозначно подсказывает мне, что гора по моему приказу двинется с места, то и молитва тут не нужна: достаточно просто приказать горе. Молитва бывает нужна как раз в тех случаях, кто прошлый опыт подсказывает мне, что гора меня не послушается — а сдвинуть гору всё-таки необходимо. Смысл молитвы в том, что я обращаюсь к Источнику нового, прося Его о том, чего ещё не было в прошлом.
Сказанное выше принципиально отличает христианство от многих других религиозных философий (вполне разумных, замечу).
Вот например, Пелевин момент просветления формулирует свою религиозную премудрость через согласие с волей Бога, цитирую:
Прими все, что происходит в эту секунду с тобой – ибо это и есть божья воля. Как только ты сделаешь так и расслабишься, ты поймешь, что здесь и скрыта единственная доступная человеку свобода. Почему наши предки называли свободу «волей»? Да потому, что свобода есть полное принятие воли бога как своей. Любое несогласие с этой волей карается немедленно и жестоко, и кара заключается в ощущении, что ты несвободен и несчастен.
Вопрос:
> Мне кажется, всем выпивающим известен момент химического блаженства, возникающий после принятия дозы: ощущения гармонии мироздания, согласия с высшей волей (назовите, как хотите) здесь и сейчас, описанный у Пелевина. Но какое это имеет отношение к духовному?
К духовному это имеет такое же отношение какое момент имеет к вечности.
Согласие с Божественной волей означает, что не только в данный момент, здесь и сейчас, но всегда и везде всё было и будет так, как ты хочешь.
По сути, согласие человека с волей Господа это и есть полное и совершенное блаженство: если я хочу того же, что хочет Бог, то всё на свете совершалось, совершается и будет совершаться согласно с моей волей, так как всё совершается согласно с Его волей.
Но Пелевин не случайно ограничивается лишь "настоящим моментом", постоянно ускользающим. Его метод состоит в том, что бы "расслабиться и получить удовольствие", приняв то, что есть, как есть в данный момент, а затем в следующий момент и так далее. Он не пытается как-то влиять на ситуацию, полагая, что если я хочу что-то изменить, значит я не согласен с волей Бога. Но что, если Сам Бог хочет что-то изменить, вмешаться в течение событий? Тогда моё желание согласно с волей Бога и не нарушает моего блаженства, но является его частью.
Это и есть правильное, прочное основание для молитвы. Правильная молитва блаженна. Она выражает не столько недовольство настоящим моментом и стремление его изменить, сколько уверенность в грядущих переменах, причём эта уверенность основывается на согласии моей воли с волей Божественной.
Вопрос в том, откуда взять эту уверенность и это согласие.
Понятно, что решение этой задачи не может быть тривиальным, ведь если она решена, то в ней решены все задачи на свете.
И было бы нелепо предполагать, что я вот здесь и сейчас дам моему дорогому читателю готовое решение этой задачи. Тем более, что оно у каждого из нас своё. С воле Бога может быть согласно множество разных воль, у каждого человека своя, и они образуют единый хор, в котором многие голоса соединяются в единой симфонии Царства Божия.
Я могу лишь предложить лишь общий ключ к решению — не мною лично найденный, а старый, универсальный, проверенный опытом многих поколений. Каждый, кто открывает Дверь этим ключом, находит за ней своё индивидуальное решение. Ключом же является имя Иисуса Христа, причину чему я указал выше.
Рождение Христа необычно и необъяснимо, оно не вытекает из прошлого опыта. Так же необычна и необъяснима вся Его жизнь, и Его смерть, и Его воскресение. Причина этой необычайности в том, что Он и есть Источник перемен. Источник Нового — того, что не следует из прошлого. Бог сотворил этот мир, Бог постоянно изменяет его, и Сам став частью мироздания (человеком по имени Иисус) Он всё-таки не вписывается в это мироздание, постоянно выходит за его пределы, как трёхмерная фигура не вписывается в двумерную поверхность.
По Божественной сути Своей Иисус Христос не может быть наименован, и потому Его земное имя не может не быть источником перемен. Где звучит это Имя, там будущее не выводится из прошлого. Потому что это имя Творца и Источника перемен. По логике вещей, Оно не может быть названо, как верно замечает Дао Дэ Цзин:
Путь, которым можно пройти — это не истинный Путь.
Имя, которое можно назвать — не настоящее Имя.
Если Христос это действительно трансцендентный Бог, то Его невозможно назвать, о Нём невозможно даже помыслить. И потому если мы всё-таки называем Его и говорим о Нём, это действует через нас Он Сам. И если в моих словах сейчас нет Его действия, значит, я говорю не о Нём, а о чём-то ином.
Сказанное выше — не пустая теория, а развёрнутый ответ на весьма важный практический вопрос: где взять веру, что молитва подействует?
Я уже много раз говорил, что молитва действует даже в том случае, когда никакой веры вообще нет. Хуже того: Бог действует даже в том случае, когда Ему не молятся, а поминают имя Его мимоходом, всуе, нечаянно или между прочим. Он Сам открытым текстом предупреждает об этом, говоря: "Не поминай имя Моё всуе, ибо Я не оставлю без наказания того, кто поминает имя Моё всуе".
Но сила молитвы существенным образом зависит от веры. Чем больше веры, тем сильнее действие молитвы, и понятно, почему: потому что сама эта вера уже является проявлением Его действия, а без Его действия поверить Ему невозможно. Вера в Бога и доверие к Богу это проявление действия Самого Бога в уме человека. И потому для увеличения эффективности нашей молитвы немаловажно найти какие-то разумные основания для этой веры.
Где их взять? Я начал сегодня с рассуждения о прошлом и выдвинул тезис: невозможно построить веру только на основании прошлого опыта. Хотя опыт этот — вещь хорошая, это дар Божий, и счастлив тот, кто имеет такой опыт. Но всё-таки нет, одного этого недостаточно, и по самому большому счёту всякий молящийся человек рано или поздно приходит к пониманию глубины смысла слов Феофана Затворника: молиться надо всякий раз будто первый раз, будто ещё никогда не маливался.
Почему? Потому что настоящее действие молитвы действительно меняет мир. Оно всегда беспрецедентно, потому что Бог вмешивается в судьбы этого мира лишь для того, чтобы сделать что-то такое, чего в этом мире ещё не было. А там, где что-то должно совершаться регулярно, Бог просто устанавливает закон. Молитва может стать обязательным ритуалом, и даже настоящее чудо может совершаться регулярно (например, ежегодно, как Святой Свет Великой Субботы). Но что-то самое главное в этом чуде всегда неповторимо, непредсказуемо, происходит впервые. Вот так и с молитвой.
Но если это не прошлый опыт, то что? Как ни странно прозвучит, настоящим основанием для веры в действие молитвы является сам факт молитвы. Логика проста: если бы Богу было неугодно действовать, то он и не дал бы мне эту молитву. Это рассуждение кажется новичку неубедительным, но (парадокс) чем больше опыта реального действия молитвы приобретает человек со временем, тем более убедительным и веским оно становится.
Казалось бы, должно быть так: люди, у которых мало опыта молитвы, находят основания своей веры в каких-то рассуждениях, в чьих-то свидетельствах и проч., а люди опытные, которые уже много раз убеждались, что молитва "работает", во всём этом не нуждаются, они опираются на опыт. Но на деле оказывается не так, причину чему я объяснил выше.
Всё дело в том, что как раз новички в молитве склонны считать молитву своим собственным действием. А по мере приобретения опыта человека медленно, но верно постигает, что его собственное действие в молитве вторично. "Мою" молитву совершает Сам Бог, а я лишь участвую в Его действии — или по той или иной причине не участвую (тогда молитвы у меня и нет, а Бог действует через кого-то другого или вообще каким-то иным образом).
Приходящее со временем понимание того факта, что молитва (и вообще всё угодное Богу) совершает в нас и через нас Сам Бог, а мы лишь содействуем Ему, постепенно подводит человека ко смирению. Со словом смирение люди связывают множество разных смыслов, большинство из которых имеют к настоящему смирению очень отдалённое отношение. Настоящее смирение это истинное самопознание. Смиренный человек это человек, который знает себе истинную цену и меру — вот и всё. Подлинное смирение сверхъестественно, потому что настоящую цену и меру человека знает только Сам Бог, и только Он Сам может подарить человеку настоящее смирение. Но опыт молитвы мало-помалу приближает нас к этому сверхъестественному самопознанию, потому что молитва сама по себе является делом сверхъестественным (о чём сейчас и речь).
И вот, оказывается, что чем меньше человек приписывает молитву себе самому, своим усилиям, навыкам, добродетелям и достижениям — тем крепче он верит, что молитву его совершает Сам Бог. И тем более прочное он имеет основание верить в действенность этой молитвы. Вот почему смиренная молитва сильна. И напротив: чем больше человек склонен ставить молитву в заслугу себе, тем меньше у него оснований верить, что эта молитва — действенна.
Повторюсь: у веры в действенность молитвы могут быть самые разные основания. Это и прошлый опыт, и вера с себя и свои силы, и даже обычная самоуверенность. Всё это играет роль и идёт в дело. Господь принимает во внимание всякую веру. Но по мере приобретения опыта молитвы остаётся в итоге только вера, основанная на смирении. А всё остальное сгорает как трава, опаляемое невидимым Пламенем имени Распятого и Воскресшего Иисуса Христа, который сказал: научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Почему так? Просто потому, что смирение это истинное самопознание, а долгим опытом всякий человек мало-помалу приближается к Истине.
Я написал этот текст, чтобы помочь восстановиться одному человеку, который когда-то крепко молился, но основывал свою молитву на ложном основании — и потерпел в итоге страшную духовную катастрофу. Настолько страшную, что об этом лучше и не рассказывать, пока этот человек не восстановился, пройдя свой путь до конца. Потому что истинный смысл любой истории выясняется только в конце, а историю без смысла нет смысла и рассказывать. Суть же дела проста: сгорело всё, кроме смирения, а смирения было так мало, что не осталось в итоге почти ничего. Кроме горделивых воспоминаний о прошлом.
> Я иногда молюсь так: Господи, научи меня правильно молиться.
|
|
</> |

 Стратегии интернет-продвижения для бизнеса: эффективные инструменты цифрового маркетинга в 2025 году
Стратегии интернет-продвижения для бизнеса: эффективные инструменты цифрового маркетинга в 2025 году  Птиц
Птиц  Без названия
Без названия  28 февраля 1864 года родился Н.В.Мещерин
28 февраля 1864 года родился Н.В.Мещерин  Вера Мухина
Вера Мухина  Мир новостей культуры
Мир новостей культуры  Последний кораблик остыл
Последний кораблик остыл 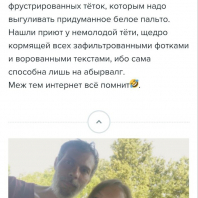 Макак из ЖЖ
Макак из ЖЖ  Трамп торговец, сегодня это лучший вариант для России и мира
Трамп торговец, сегодня это лучший вариант для России и мира 



