Повышение налогов, скромный бюджет и плохой прогноз для экономики
 taxfree — 04.10.2025
На этой неделе российское правительство утвердило в общих чертах
проект бюджета на 2026–2028 годы. Документ станет публичным только
к 1 октября, когда он будет внесен в парламент, но основные
параметры уже позволяют понять общую картину: правительство
попытается прожить 2026 год, не увеличивая расходы бюджета, а самую
большую статью — военные расходы — впервые с начала СВО даже
снизить. Чиновники поспешили назвать бюджет сбалансированным и даже
дезинфляционным. Но сводить концы с концами спустя три года СВО
становится все труднее.
taxfree — 04.10.2025
На этой неделе российское правительство утвердило в общих чертах
проект бюджета на 2026–2028 годы. Документ станет публичным только
к 1 октября, когда он будет внесен в парламент, но основные
параметры уже позволяют понять общую картину: правительство
попытается прожить 2026 год, не увеличивая расходы бюджета, а самую
большую статью — военные расходы — впервые с начала СВО даже
снизить. Чиновники поспешили назвать бюджет сбалансированным и даже
дезинфляционным. Но сводить концы с концами спустя три года СВО
становится все труднее.Скромный бюджет и новый экономический прогноз
Две главные цифры на заседании правительства назвал премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в 2026 году составят 40,283 трлн рублей, расходы — 44,869 трлн. Это значит, что с учетом инфляции (должна составить 6,8% на конец года) расходы остаются практически неизменными по сравнению с 2025 годом (41,469 трлн) и оказываются всего на 2% выше по сравнению с прошлогодними планами на 2026 год, что и неудивительно, поскольку и инфляция оказалась выше плана. Доходы снизятся как в реальном, так и в номинальном выражении — и относительно текущего плана, и относительно планов годичной давности
Низкие цены на нефть, крепкий рубль и замедление экономики продолжили сокращать доходы бюджета. Эта реальность отражена в обновленном прогнозе Минэкономразвития, на основе которого Минфин верстал бюджет. Новая версия прогноза значительно ухудшена по сравнению с апрельской.
Главное изменение — снижение ожиданий по росту ВВП: в 2025 году эта цифра составит 1% вместо предполагавшихся в апреле 2,5%, в 2026-м — 1,3% вместо 2,4%. Это сближает оценки Минэкономики с действующим прогнозом Банка России (рост на 1–2% в 2025-м и 0,5–1,5% в 2026-м).
Снижены и прогнозы по инвестициям (в 2026 году прогнозируется спад на 0,5% вместо роста на 3%), что Минэкономики объясняет «высокой базой последних лет» и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, и прогноз по промышленному производству.
Внешнеэкономическая конъюнктура оценивается лучше. Профицит внешней торговли товарами в 2025 году ожидается на уровне $106,9 млрд (против $86,8 млрд в апрельской версии). Рубль по итогам года укрепится до 86,1 рубля за доллар (против 94,3 в текущем году), но уже в 2026 году упадет до 92,2 руб./$.
Немного улучшен прогноз по инфляции: в 2025 году она составит 6,8%, а не 7,6%, как предполагалось раньше.
Все эти цифры основаны на прогнозе средней цены нефти Brent $70 за баррель в 2025–2027 годах (раньше ожидали $72).
Снижая прогноз роста ВВП с 2,5% до 1% в 2025 году и обозначая символическое восстановление роста в 2026–2028 годах, правительство признает, что экономика входит в полосу затяжной стагнации. Сниженный прогноз по инфляции — формально хорошая новость, но он достигается главным образом сокращением бюджетного импульса и высокими ставками, а значит, цены стабилизируются за счет «сжатия» спроса, а не роста предложения.
Повышение налогов и его последствия
Расходы бюджета сохраняются на прежнем уровне, а доходы падают — естественно, бюджет продолжит быть дефицитным. Министр финансов Антон Силуанов объявил, что в 2026 году дефицит бюджета составит 1,6% ВВП.
Последние два года Минфину не удавалось выдержать заявленные параметры дефицита. В 2025 году первоначально предполагалось, что он составит 0,5% ВВП; в июне 2025 года цифра была пересмотрена в сторону увеличения — до 1,7%. На этой неделе уже выяснилось, что по итогам года дефицит составит 2,6% ВВП — примерно такой рост дефицита мы прогнозировали в середине сентября. Но никто не может гарантировать, что и эта цифра окончательная.
Одна из важнейших задач Минфина — поддержание нулевого первичного дефицита бюджета, то есть ситуации, когда базовые расходы (зарплаты чиновникам, социальные выплаты, оборона, инвестиции) за вычетом платежей по долгу полностью покрываются доходами. Роста внешних доходов не предвидится, и чтобы избежать значительного роста займов, у правительства не осталось выбора, кроме повышения налогов.
Во-первых, Минфин в середине сентября, предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Повышение НДС может дать бюджету дополнительный доход в размере около 0,5% ВВП, или 1,2 трлн рублей в год. По сути НДС представляет собой налог на потребление — повышая его ставку, власти прежде всего забирают деньги у населения, поскольку новые налоговые издержки бизнес закладывает в цены и переносит на покупателей.
Кроме того, правительство намерено увеличить налоговые сборы с малого и среднего бизнеса, снизив с 60 до 10 млн рублей в год порог выручки, при превышении которого малый бизнес становится плательщиком НДС вместо более выгодного и дешевого режима «упрощенки» (УСН). Фактически это означает повышение налогов для всего малого бизнеса. 10 млн рублей в год — это 800 тысяч рублей ($8500) в месяц; примерно столько зарабатывает точка по продаже шаурмы. Теперь такой бизнес будет платить НДС 22% со всей своей выручки вместо 6% налога по «упрощенке». Правительство объясняет эту меру борьбой с уклонением от уплаты налогов, при котором большая компания дробится на маленькие, которые платят налоги как малый бизнес. Но этот шаг может поставить многие мелкие и средние компании на грань выживания.
Председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной повышение налогов предсказуемо понравилось больше, чем реальная альтернатива в виде неконтролируемого роста дефицита бюджета, покрываемого заимствованиями. «Мы расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет… Но, если бы правительство пошло для финансирования необходимых расходов на увеличение дефицита бюджета, нам бы пришлось значимо повысить прогноз ставки на 2026 год. Сейчас, напомню, это 12–13%. Решение правительства снимает эти наши опасения», — сказала Набиуллина.
Действительно, повышение НДС может сработать против инфляции, хотя на первый взгляд это кажется парадоксальным. Механизм прост: налог изымет у населения часть покупательной способности, что снизит реальный потребительский спрос при неизменном предложении товаров. Меньший спрос будет означать меньшее давление на цены в среднесрочной перспективе. Для денежной политики это создает пространство для маневра. Правда, в краткосрочной перспективе повышение НДС временно подтолкнет цены вверх — это разовый скачок, который может подпортить инфляционные ожидания населения и бизнеса.
Тем не менее повышение налогов и увеличение заимствований бьет по экономике с двух сторон. Бизнес получает прямой удар через рост ставок и сборов, плюс косвенный — через эффект вытеснения, когда государство активно занимает деньги на внутреннем рынке, конкурируя с компаниями за банковские кредиты и инвестиции. Граждане тоже попадают в двойные тиски: налоговая нагрузка растет, а бюджетные приоритеты смещаются в сторону военных трат. Получается парадокс: люди и бизнес платят государству больше, а взамен получают меньше услуг и поддержки. Все ресурсы продолжат перетекать в оборонку, оставляя гражданскую экономику на голодном пайке.
Что с военными расходами
Правительство объясняет повышение налогов необходимостью финансировать военные расходы. Оборонные траты в 2026 году впервые с начала СВО сократятся — с 13,5 до 12,6 трлн рублей, выяснил Reuters. Эта сумма примерно совпадает с планами годичной давности, когда на 2026 год закладывали 12,8 трлн рублей.
Но, как выяснила журналистка Фарида Рустамова, изучившая материалы Минфина, есть нюанс. Расходы по соседней статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», наоборот, подрастут — с 3,56 трлн рублей в 2025-м до 4,065 трлн в 2026 году.
В результате совокупные расходы на оборону и нацбезопасность останутся рекордными в структуре расходов бюджета — более 40% федеральных трат, или примерно 8% ВВП. Перекройка и маскировка расходов внутри силового блока скорее говорят о том, что военно-промышленный комплекс уперся в ограничения по рабочей силе и производственным мощностям. Пока государство и околовоенный бизнес будут искать способы повысить производительность труда или найти рабочих для расширения производства, у правительства будет возможность замедлять инфляцию через снижение спроса. Повышение налогов подтверждает: государство готовит общество и бизнес к долгому финансированию СВО — пусть и в более «распыленной» бюджетной конфигурации.
У сокращения военных расходов могут быть и другие объяснения. После рывка 2023–2024 годов по наращиванию мощностей ВПК система переходит от капитальных вложений к серийному производству и техобслуживанию. Это снижает кассовые выплаты из бюджета в конкретном году, хотя долгосрочные обязательства по контрактам остаются высокими — просто деньги будут потрачены позже. Кроме того, доля засекреченных бюджетных статей по-прежнему велика (более 25%). Часть военных расходов маскируется под другие направления — региональные программы, кредиты ВПК под госгарантии, авансы казначейства, закупки через госкорпорации. Формально эти траты не проходят по статье «оборона», но по сути работают на военные нужды.
Что мне с этого?
Власти стабилизируют расползающиеся из-за СВО государственные финансы не за счет роста экономики и открытия новых рынков, а за счет увеличения сборов — бюджет держится на налоговом ужесточении, переразметке силовых расходов и дорогих займах. Это не коллапс, но и не прорыв: экономика входит в длительный режим низкой скорости, где государство потребляет больше, чем может себе позволить. Россия, конечно, не бумажный тигр, как назвал ее президент США Дональд Трамп, но и уже не неуязвимый медведь, как заявляет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Это крупный, травмированный хищник на жесткой диете после бюджетных стероидов: он силен, но движется медленно, экономит и доедает своих налогоплательщиков и бизнес.
Авторы статьи — научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко и приглашенный научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Александр Коляндр.
Добавиться в друзья можно
вот тут
Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку
ниже:
|
|
</> |



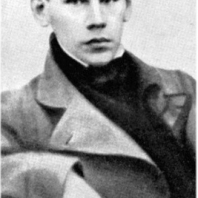 Руби!.. Надо же было показать свою власть...
Руби!.. Надо же было показать свою власть...  Водонапорная башня
Водонапорная башня  5 глубоко укоренившихся мифов о штык-ножах
5 глубоко укоренившихся мифов о штык-ножах 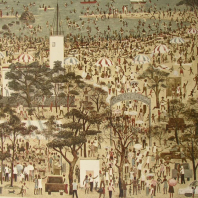 Вильнер Виктор Семёнович (1925 - 2017)
Вильнер Виктор Семёнович (1925 - 2017)  Пахнет осенью...
Пахнет осенью...  Конец «засухи тиар»: ужин в Королевском дворце Мадрида в честь султана Омана
Конец «засухи тиар»: ужин в Королевском дворце Мадрида в честь султана Омана  «Сын лейтенанта Шмидта»: граф фон Шлик или князь Шляховский
«Сын лейтенанта Шмидта»: граф фон Шлик или князь Шляховский 



