Слова, слова, слова...
 chipka_ne — 26.08.2019
chipka_ne — 26.08.2019
Я много об этом думала во время маминой болезни в начале года, да, собственно, все семь этих нелёгких лет, что она с нами здесь жила.
А этим летом, забежавши на пару-тройку дней в родной город, попыталась разобраться в бумагах в маминой квартире, заработала жуткую аллергию от бумажной пыли и в результате сделала только два дела: фотографии собрала, не сортируя, в огромный пакет и увезла домой, чтобы там разобраться, и открытки поздравительные, почти не сортируя, выставила безжалостно.
А теперь, проветрив хорошенько фотографии, я начала их потихоньку разбирать, и это тоже сильно затянуло и, наряду с делами рабочими отвлекло от ЖЖ. И оказалось, что среди фотографий затесалось десятка полтора открыток, которые я, прежде, чем выбросить, не поленилась прочитать.
На старые открытки вроде бы принято умиляться — а меня опять тоска одолела. Вспомнила давний и совершенно жуткий рассказ Татьяны Толстой «Женский день», девочки в школе пишут мамам открытки к 8-му марта:
На другой стороне картонки — белая, разлинованная поверхность, и на ней, под диктовку краснолицых, толстых надсмотрщиков, пристукивающих костяшками пальцев по столу, мы покорно пишем: «Дорогая мама! Желаю тебе счастья в личной жизни… успехов в труде… мирного неба над головой». Крупным, как тыквенные семечки, семилетним почерком я вывожу на меловой бумаге государственные, пустые слова. Чужие слова, потому что своих у меня еще нет...
Отсюда и моя тоска — и этот десяток, и горы выброшенных
картонных прямоугольничков — вроде не семилетние люди писали, а
сплошь чужие слова, разным почерком, но, как под копирку —
примите самые сердечные... от всей души.... успехов в работе...
крепкого здоровья... счастья в личной жизни...
Или ещё, с
претензией на образность: сибирского здоровья!.. кавказского
долголетия!.. украинского аппетита!
А страшнее всего — стихотворные:
Желаем счастья, долгих лет,
Желаем творческих Побед.
Цветов, улыбок, дружбы верной,
Ну, а здоровья, непременно!
(Жаль, что я не Вышинский — за рифму «верной — непременно» давала бы десять лет без права переписки без учета смягчающих обстоятельств. Страшнее этого только только «дорогой наш человек», «светлый наш человечек», «ваш труд по посеянию (так!) разумного, доброго, вечного» и «сияйте лучиком добра!»).
Вот право слово, на фоне этой мертвечины письма деревенских моих родственников, пренебрегающих, подобно Дос Пассосу, знаками препинания, со всеми этими «во первых строках моего письма» и «а также шлют тебе привет племянник Николай и жена его Таисья и дочери наши Татьяна с Надеждой и двойняшки Любка с Наташкой и Володька махонькой и сват Сергей и подруга твоя давняя Валентина а мужа своего Петра она схоронила недавно скоро сороковины...» — выглядят просто островами индивидуальности и образцами стиля, несмотря на непременное «жду ответа, как соловей лета» — всё-таки те простодушные словесные формулы с раньшего времени были куда обаятельнее и человечнее, что ли...
Может, и зря я так-то разгневалась, но вот накатывает всё ещё
порой пережитое за этот год, да и за семь предыдущих лет, не
получается всё ещё собрать себя по кусочкам.
Мама овдовела давно — в 1982 году, в день своего 60-летнего юбилея.
Отмечали всей кафедрой, роднёй и знакомыми с помпой в ресторане, с
официальными речугами, маме это нравилось, а папа мой ресторанные
юбилеи не любил, то ли дело дома, когда всех видишь и всех знаешь,
и можно галстук распустить и в кресло пересесть, поэтому уехал,
соблюдя приличия, ещё до окончания застолья забирать внучку,
мою младшую дочку от няни, сидел у неё в прихожей на
табуреточке смотрел, как няня зашнуровывает ей ботиночки, как вдруг
дочка сказала: «Дуся, дедушка падает...» Мгновенная остановка
сердца. Умер, улыбаясь. Реанимировать даже не пытались. Был
он тогда моложе меня сегодняшней на год.
Маме позвонили во время прощальных тостов — так уж вышло...
С тех пор она жила одна — мы с детьми наезжали табором на лето, сбегая от ташкентской жары, сын старший навещал каждую неделю, благо жил в соседнем областном центре, ну, и работа — студенты, сослуживцы, всегда на людях, она была сильным человеком и одинокой себя не считала.
Она вообще всю жизнь больше сил и ресурсов душевных отдавала
работе, чем семье, я думаю, что многие из учительских детей с
подобным знакомы. Разумеется, нас любили и заботились, но вечно у
мамы среди неотложных дел числился какой-нибудь студентик — то
гениальный, то, наоборот, недотёпа, но несчастный и заброшенный и,
разумеется, и тот и другой случай требовали её неусыпных забот и
опеки. Недотёп я ей ещё прощала, а вот гениальных тихо ненавидела,
ибо они постоянно ставились нам с братом в пример. Вся эта публика
была ей, кстати, благодарна — например, никогда не забывала
поздравить с праздниками. А я, к примеру, помнила только день
рожденья, Новый год и День победы. День учителя вечно пропускала,
даже работая в школе, день Советской Армии попросту игнорировала,
да, честно говоря, и открытки с 8-м марта отправляла с опозданием.
Мама обижалась и каждый раз наставительно рассказывала мне о
каком-нибудь очередном благодарном ученике, который чуть ли не с
50-х! никогда! включая 7 ноября и 1 мая! и день Парижской
коммуны! ни разу! где бы ни был! в отличие от!
Б-г ты мой, какие же горы и завалы этих открыток с поздравлениями, словно написанными под копирку, хранились у нас на антресолях! До нынешнего года я не решалась их выбросить.
Когда я уезжала в Израиль, брат меня, расплакавшуюся было, успокоил — выйду на пенсию, перееду к ней, догляжу — положись на меня! И на него можно было положиться. Если бы не скоротечный агрессивный рак, который расправился с ним 7 лет спустя.
Маме тогда было 78. Она ещё работала в полную силу. Официально на пенсию вышла в 82 года, но до 85-ти ещё читала, как почасовик, курс матанализа и консультировала педпрактику.
Туристическую визу в Израиль ещё до введения безвиза с Украиной, ей, как прямой родственнице, уже тогда открывали сразу на три месяца, так что года с 2005-го она стала приезжать ко мне на всю зиму, как она говорила «косточки погреть».
Здесь в Израиле у неё была куча выпускников, да и новыми друзьями она быстро обрастала, все охотно звали любимую учительницу в гости, иногда я её по целому месяцу не видела — она разъезжала по всему Израилю: туда на день, туда — на два, туда — на неделю.
И вот что интересно, как только мама уезжала обратно в Украину,
не проходило и недели, как начинались звонки от её многочисленных
знакомых. Ну, сначала дежурные вопросы — какделакакдети — а
потом непременное: а как там мамочка одна? а вы не думаете, что вам
уже пора её к себе забрать — у вас же просторная квартира, нет?
Ваша мама для нас — как мать родная, мы тут переживаем ночей не
спим, вы уже что-то начали предпринимать?
Ладно ещё, когда звонили те, с кем я хоть как-то пересекалась. Часто такие звонки исходили от тех, кого я знать не знала. Однажды я довольно грубо спросила какую-то тётку, не думает ли она, что мне моя мама менее дорога, чем им, посторонним, в сущности. Мне скорбно ответили, что не ожидали такого бессердечия...
Признаки деменции у мамы появились лет десять назад, если не раньше. Она с этим боролась — всё записывала, составляла расписание на каждый день. вела учёт расходов, решала кроссворды, читала детективы. С забывчивостью ей удавалось какое-то время справляться, но с возрастными изменениями в характере, с многочисленными обсессиями и со старческой паранойей — увы. Одной из её обсессий было стремление всё доедать под девизом «Я знаю, что такое голод, я продукты не выбрасываю!». Это, честно говоря было всегда, но в пределах разумного, а тут дошло до абсурда. Несмешного совсем абсурда, потому что в декабре 2011 с пищевым отравлением она попала в реанимацию. Проведя с ней десять дней в инфекционной больнице, я поняла, что контролировать её на расстоянии невозможно и явочным порядком увезла в Израиль, пока что по туристической визе.
Под закон о Возвращении мама не подпадала, вид на жительство ей
полагался только в рамках воссоединения семей, обычно этот процесс
занимает два с лишним года, у нас он занял четыре — была путаница в
документах, к тому же маме дважды удалось меня довести до того, что
я соглашалась отправить её обратно на пару-тройку месяцев
(90-летний юбилей необходимо было встретить с любимой кафедрой, под
отретушированным портретом с официальными речами пионерским
салютом и поздравительным «адресом» в коленкоровом переплёте).
Каждый такой отъезд на соответствующее количество месяцев
откладывал рассмотрение нашего дела в МВД, пустяк, конечно,
многочисленные любящие её, как мать родную, друзья-приятели
продолжали мне позванивать и объяснять, что я неправильно за
мамочкой ухаживаю, слишком её контролирую (деменция? какая
деменция? да, у неё такая ясная голова! да как у вас язык
поворачивается!) Мне втолковывали, насколько эти чествования важны
для человека её поколения — мне не понять. Мне и в самом деле этого
было не понять. Зато я хорошо понимала то, что без статуса хотя бы
временного жителя нет медицинской страховки от нацстраха. И
что в возрасте под 90 ни одна страховая компания частным образом
уже не страхует ни за какие деньги.
А маме нужно было срочно лечить глаза. Отслоение сетчатки. Частный визит к врачу — от 600 до 900 шекелей. Укол в сетчатку — 750. А уколов нужно два минимум раз в месяц. Платила за это бессердечная дочь. А сердечные люди заботились о том, чтобы поздравить любимую учительницу с Днём советской армии, например. И находили время, чтобы потом отдельно позвонить мне и деликатно так попенять — что ж мы в семье стол-то не накрыли, а? Забыли славное прошлое и оторвались от корней...
Кстати, вот тут я впервые столкнулась с тем, что называю рОвнодушием. Когда мама впервые пожаловалась, что натурально слепнет, я в панике записала её к первому попавшемуся специалисту, чтоб только назавтра — им оказался специалист по глаукоме (это, наряду с катарактой, у нас тоже имелось). Тот сразу сказал, что главная проблема — в сетчатке, но я объяснила, что ближайшая очередь к специалисту по сетчатке доктору Авербуху в Адассе — только через месяц, а тащить её в другой город мне физически тяжело. Доктор по глаукоме попутно, между делом, выяснил, что страховки у нас нет и когда будет — неведомо. Присвистнул. Взял телефон и набрал Авербуха. Велел прийти завтра и набраться терпения — маму примут между очередями, может быть, в конце дня. Бесплатно, по дружбе — заплатите только за уколы. По дружбе, ребята — он видел маму в первый и в последний раз в жизни! Я его ещё раз увидела год спустя в кафетерии в той же Адассе и кинулась с благодарностями. Он лучезарно улыбнулся и честно признался, что убей, не помнит, кто я такая.
Когда мама получила, наконец, страховку от нацстраха, замотанная регистраторша в Адассе сказала, что в нацстрахе я могу получить частичный возврат денег. Я запаниковала, что вряд ли сохранила квитанции. На меня ругнулись невежливо — бестолковщина! — и час спустя, выкликнув мою фамилию, девочка-стажерка, нашла нас в очереди на укол, ткнула мне пачку заново распечатанных квитанций за несколько прошлых месяцев и умчалась, не дождавшись реверансов и благодарностей.
Когда мне, наконец, позвонили из МВД с сообщением, что маме утвержден статус постоянного жителя, оказалось, что требуются ещё две бумажки — две письменных рекомендации от граждан Израиля, подтверждающих, что я — это я, а моя мама — действительно моя мама. Чиновница по имени Эти (она уже научилась за это время без ошибок произносить невозможную для израильтян мамину фамилию) заверила меня, что это пустая формальность — не банковская гарантия, никакой финансовой ответственности — есть же у вас в Израиле знакомые, которые вашу семью хорошо знают? вот пусть и напишут две строчки чистой правды. Нет, нотариальное заверение не нужно. Можно от руки. Можно по факсу.
Я, естественно, села на телефон и принялась обзванивать тех, для кого любимая учительница — мать родная и так далее...
Результат был ошеломляющий.
Нет, господа, я знала, что люди они советские, своеобразные (среди этих советских, кстати, были совсем молодые, ровесники моих дочерей), официальных инстанций боятся, но вот чтобы ни один, буквально — НИ ОДИН — этого даже я не ожидала. Двое самых страстных жалельщиков сухо попросили больше не звонить и бросили трубку.
...Одну рекомендацию написала соседка, которая с нами познакомилась за пару лет до этого — только попросила продиктовать нужный текст, а то ей лень думать. Вторую — англоязычная начальница, с которой я вечно на ножах, видевшая мою маму раз в жизни случайно — настрочила с ходу целую простыню на официальном бланке и озабоченно осведомилась не нужна ли круглая печать и подпись директора для солидности?
Звонки к нам домой от верных друзей с тех пор прекратились полностью. Даже ко дню Советской Армии.
А мама тосковала. Пока могла — звонила сама, мы для этого специально купили ей телефон для стариков с большими кнопками и голосовым сопровождением. Но отвечали ей всё реже и суше, а потом сознание начало путаться и пользоваться телефоном она перестала. Вот только тоска и ощущение того, что её бросили осталось и, как это почти всегда случается при деменции, начались поиски виноватых, а виноватыми всегда оказываются близкие. Мы с мужем в данном случае — это ведь мы оторвали её от любимых и заботливых друзей. Я-то ладно — я, работая со стариками, всякого навидалась, прослушала несколько курсов по болезни Альцхаймера и хотя бы теоретически была к этому готова (хотя — одно дело чужие старики на службе, а другое — родная мама дома...). А вот, что вытерпел за это время мой муж — об этом я даже думать боюсь.
Ну, и самое трогательное. Год назад неведомо кто, приехавши в мой родной город, сообщил, что мама умерла — уморили старушку.
Хорошо, что первой об этом узнала моя племянница, старшая мамина внучка, как раз собиравшаяся к нам в гости. Она девушка нового поколения — «нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели» — сплетниц укоротила быстро и неполиткорректно, приехав в Израиль, устроила специально для интересующихся несколько переговоров по скайпу с участием бабушки (мама, как ни странно, ненадолго встрепенулась и говорила более-менее связно) — мы даже посмеялись потом: значит долго жить будем!
Полгода спустя мне стало не до смеха. С маминой кафедры на мой мэйл в мамин день рожденья пришло пространное письмо с искренним соболезнованием по поводу смерти «найріднішої для нас людини — самого родного для нас человека» и репортажем с траурного митинга, который в её родном университете провели честь-честью — портрет с чёрной лентой, речи соответственные — мама бы одобрила, если б соображала. Что я написала в ответ — вам лучше не знать. Хорошо, что не отправила сразу — дала отстояться и на следующий день вымарала всё нецензурное. В ответ пришло растерянное письмо — ну как же, надёжные люди сообщили, вечерней лошадью из Израиля...
Разумеется, мама об этом не знала и знать не могла, но примета о долгой жизни на сей раз не сбылась, прожила она только лишь полгода после этого «отпевания».
Меня, кстати, вот ещё, что выбесило — ну, ладно, людей там ввели в заблуждение, но на фиг писать вот эту пустую хрень «самого родного»? У вас что — своих мам-пап нету? детей? братьев-сестёр? бабушек-дедушек родных, в конце концов? Вы несколько лет, имея мой мэйл и телефон, ни строчки мне не написали, типа, как там «самая родная»? А теперь такой повод, такой повод — можно митинг зафигачить!
Ну, а о тех, кто так торопился пролить слезу, заранее похоронив любимую учительницу, у меня и слов нету — ни цензурных, ни каких других. Шоб они были здоровы — что я ещё скажу.
Я, кстати, нашла в себе силы сообщить парочке адресатов из списка верных друзей о маминых похоронах — просто потому, что мама бы очень хотела, чтобы её любимые ученики на них присутствовали. И не ухмыляйтесь — у неё ещё до того, как Альцхаймер одолел, была такая фишка — поговорить о планировании похорон и фасоне памятника.
О том, соизволил ли кто из добрых заботливых на похороны приехать, говорить, я полагаю не надо.
И, знаете, я всегда думала, что мне будет неважно, придёт ли кто-то на похороны. Оказалось — важно. Важно, что пришли соседи, здешние приятели, практически все сослуживцы и из соседних отделов тоже. Без сюсюканья. С готовыми формулами — «барух даян эмет» и «шело неда». Что нон-стоп приезжали в мою деревню на шиву, с неподдельным интересом листали альбомы с мамиными фотографиями, гладили собаку, заваривали мне кофе и просто болтали о том, о сём.
Что во время маминой болезни, без моей просьбы сделали кучу вещей, о которых я не просила. Например, оформили мои больничные дни на маму (у нас на уход за родственником положено только 8 дней в году, а мне надо было много больше). Разрешили работать на дому тогда, когда работа не требовала моего присутствия — у нас очень редко разрешают работать на дому. Когда я попросила ссуду — вместо ссуды выделили безвозмездную помощь — я и не знала о такой опции. Часть из этих вещей взяла на себя моя начальница, с которой, как я уже упоминала, мы вечно на ножах.
Да и вообще я почти ни с кем из этих людей не дружу домами и не обнимаюсь при встрече. Мы ровно дышим друг к другу. Никакой сердечности.
А гору открыток «с самыми сердечными поздравлениями» я после этого выбросила из маминой квартиры легко, без сожаления и почти всю. Испортил меня капитализм.
Пы. Сы. Чтоб не заканчивать совсем уж на мизантропской ноте — скажу о маленьком «почти». Пару десятков открыток я оставила. Тех, где обратные адреса были самых глухих полесских районов — Маневичского, Старовыжевского, Камень-Каширского (злые языки называли его Камень Кошмарским). Я просто помню этих людей — директоров и завучей сельских школ, выпускников ранних 60-х. В середине 90-х, когда началась гиперинфляция и зарплату почти не платили, они полностью снабжали маму продуктами. Когда я впервые приехала из Израиля в 95-м году в Луцк, то застала сцену в прихожей:
— Мелентій! — чуть не плакала мама, — не треба мені більше картоплі, ти ж вже привозив — підвалу в мене немає, а на балконі померзне!
— Нічого-нічого, — гудел крепенький Мелентий, — родичам роздасте, може сусідям треба, я назад до села не повезу, а тут у вас осьо скриня у калідорі — можна поки що туди. (Можно-можно, — подтвердила выглянувшая на шум соседка — это её деревянный ларь стоял на лестничной площадке).
— А ось тут іще трошки, — Мелентий невесть откуда вытащил ещё одну увесистую торбочку, — ось тут сальця свіженького, то Тетяна Михайлівна солила, ні не з нашого випуску, пізніше трошки, осьо яєчка у кошику — гляньте, не побилися — а то ми гусочку зарізали, до вас же дочка приїхали зі Святої Землі, так? а вони ж ТАМ сала не вживають, ми ж розуміємо, а гусочку може будуть...
Мама мне про этого простецкого мужичка когда-то рассказывала — один из самых талантливых математиков на курсе, мог бы сразу в аспирантуру отправляться, но дома была вдовая многодетная мама, младшие братья-сестры и заброшенная сельская школа, из которой все городские учителя сбегали через год. Так и вернулся на родные болота, потому что кто-то же должен...
|
|
</> |

 Тренды современного массажа: виды и их преимущества
Тренды современного массажа: виды и их преимущества  Голосование за новую 1000-рублевую купюру
Голосование за новую 1000-рублевую купюру  Главный конкурент Утёсова
Главный конкурент Утёсова  Вагон Колчака
Вагон Колчака  Повод для улыбки
Повод для улыбки  Анжеро-Судженск
Анжеро-Судженск  Пример классической манипуляции
Пример классической манипуляции  Декабрьский рассвет
Декабрьский рассвет 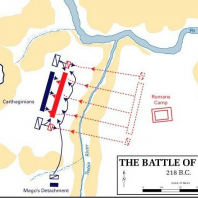 18 декабря ● Образована "Служба внешней разведки в России" и "День работников
18 декабря ● Образована "Служба внешней разведки в России" и "День работников 



