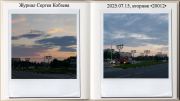Про миф об «электронном концлагере». Часть вторая
 anlazz — 04.01.2022
Итак – как уже было сказано в прошлом посте миф об «электронном концлагере» пришел в
нашу жизнь на смену мифу о «глобализации». Причем – как это обычно
и случается – эти мифы изначально имели весьма малое отношение к
реальности. В том смысле, что никакой «глобализации» - так, как она
представлялась в указанном мифе, с «падением национальных
государств» перед некими наднациональными силами – никогда не было.
(И быть не могло по объективным причинам.) Был период мировой
гегемонии США – причем, гегемонии, полученной Штатами фактически
даром, по причине полной сдачи их геополитических противников.
(СССР-России.) Причем сами американцы некоторое время даже не
осознавали того, что произошло – но когда осознали, то
воспользовались случившимся по полной.
anlazz — 04.01.2022
Итак – как уже было сказано в прошлом посте миф об «электронном концлагере» пришел в
нашу жизнь на смену мифу о «глобализации». Причем – как это обычно
и случается – эти мифы изначально имели весьма малое отношение к
реальности. В том смысле, что никакой «глобализации» - так, как она
представлялась в указанном мифе, с «падением национальных
государств» перед некими наднациональными силами – никогда не было.
(И быть не могло по объективным причинам.) Был период мировой
гегемонии США – причем, гегемонии, полученной Штатами фактически
даром, по причине полной сдачи их геополитических противников.
(СССР-России.) Причем сами американцы некоторое время даже не
осознавали того, что произошло – но когда осознали, то
воспользовались случившимся по полной.В том смысле, что объявили, что «время противостояния держав закончилось», и что «все цивилизованные страны должны действовать сообща ради общего блага» - но под этим благом, разумеется, подразумевались блага американского крупного бизнеса. Который без стеснения стал поглощать все ресурсы – от рынков до квалифицированных специалистов – в самых различных странах, пользуясь тем, что никто не может организовать ему сопротивление. («Местные» же капиталисты вынуждены были ограничиваться ролью посредников.) Впрочем, о подобной ситуации – которая сложилась в мире где-то к середине 1990 годов – надо говорить отдельно.
Тут же хочется сказать только о том, что указанный «способ получения» гегемонии Западом – а именно, «выигрыш в лотерею» от неожиданно прекращенного советского проекта - практически лишил новоявленного гегемона возможностей «немифического» мышления. В том смысле, что идея «глобализации» оказалась такой удобной и приятной всем – ну, кроме жителей бывшего СССР, впрочем, и тут нашлось немало «выигравших» - что все иные модели реальности оказались просто отброшенными. Проще сказать: жить, веря в то, что «силы разума и прогресса победили», и что теперь всегда, до скончания веков, будет одна лишь «либеральная демократия», на определенном временном участке оказалось выгодным.
Поскольку это давало действительно работающие «жизненные стратегии». Скажем, в плане покупки недвижимости-активов на Западе, а потом и переезде туда на постоянное жительство, обеспечения «западного образования» для детей. (Это для «незападных людей».) Или – если брать самих «обитателей гегемонии» - в плане ориентации не на производство, а на распределение ценностей, буквально валящихся в руки. (Для этого даже завоевывать туземцев было не надо, как раньше – они все давали сами. См. то же «Соглашение о разделе продукции».) И наоборот – тот, кто пытался увидеть что-то за бесконечными «розовыми облаками» в развитых странах (в виде все возрастающего уровня жизни) – оказывался «в пролете». (Скажем, все попытки развития самостоятельного производства в 1990-2000 выглядели глупостью. И наоборот, встраивание в западные бизнес-процессы – в виде той же «отверточной сборки» - выглядело прорывом.)
Однако уже в 2000 годы ситуация начала меняться. В том смысле, что все большему числу людей стало понятным, что управление миром со стороны «гегемонии» оказывается достаточно специфическим – в том плане, что любые «новые проекты» у нее, почему-то, проваливаются. (Как, скажем, провалилась концепция «демократизации Ирака» после его захвата, а потом – и знаменитый план «перестройки Ближнего Востока».) Надо ли говорить, что для «победителей в Холодной войне» это выглядело странным. Более того: тот взрывной рост экономики и уровня жизни, который наблюдался в 1990 годы, начал стихать, переходя в свою противоположность. (Знаменитый «крах доткомов» был явным указанием на то, что «компьютерная отрасль» - которая до этого виделась всеобъемлющей и бесконечной – имеет очевидные ограничения.)
Потом был «банковский кризис 2008 года», показавший, что не только IT, но и финансовые услуги не являются «бесплатным способом» получать огромные доходы, ничего не делая. (А ведь сколько людей считало банкиров всемогущими. А сколько считает сейчас!) По крайней мере, для большей части обитателей развитых стран – для того самого «Золотого миллиарда», который еще недавно казался вечным. (И само попадание «на ПМЖ» в развитую страну выглядело, как несомненный успех.) Ну, а затем наступившие 2010 начали последовательно разрушать один «глобалистический подмиф» за другим. Пока в 2020 году ему не наступила окончательная «крышка» в виде пресловутого «ковида».
Разумеется, это не значит, что сейчас еще нет тех, кто верит в «окончательное единство всего прогрессивного человечества» и «бесконечный прогресс». Однако назвать всеобъемлющей подобную «веру» уже не получится. А значит – человечеству оказался необходимым новый миф. Почему, кстати, миф – а не какая-нибудь более-менее реалистичная модель реальности? А потому, что по любым «реальным» моделям оказывается невозможным предсказывать существования человечества на сколь-либо долгий строк. Точнее, это делать возможно, но только с учетом тех колоссальных изменений, что произойдут. А современные люди – и что не менее важно, современные социальные системы – формировались, как уже было сказано, в иных условиях: в условиях «неожиданно свалившегося счастья». (К многим обитателям РФ это, кстати, так же относится: например, те же москвичи получили 99% своего жизненного уровня исключительно за счет обитания в своем городе.)
Поэтому они не могут даже представить: как это следует жить в условиях, когда надо получать все за счет своего труда. В особенности это относится к «лучшим людям»: у них и до этого было очень плохо с подобным. В течение веков элита – все эти короли и помещики – жили, практически, паразитами. Но в прошлом столетии от «хозяев» и «начальников», по крайней мере, потребовалось умение управлять. (И им пришлось подчиниться этом требованию – и даже включить в свой состав реальных управленцев.) Но в 1990-2000, и даже в 2010 годах это снова стало не нужным: надо было только найти «свободные ресурсы» для утилизации – от бывших советских заводов в РФ и до возможностей получения преференций «на экологию» в Штатах – и «стричь купоны». (Не задумываясь об эффективности организации производства, поскольку последнее почти не важно.)
А значит, новый «образ мира» мог быть только чисто мифологическим – т.е., таким, в котором реальность проявляется в настолько искаженном виде, что ее можно игнорировать. Указанным мифом и стал миф о «всеобщей цифровизации» - или миф о «цифровом концлагере», как его начали называть сейчас. Конечно же, эта конструкция представляет собой в значительной мере «перелицованный» образ «вечного IT» конца 1990-начала 2000 годов. (До указанного выше «краха».) Однако теперь в ней жизнь большинства (населения развитых стран) не показывается в виде бесконечно растущей «пирамиды потребления». Скорее наоборот: оно там выглядит достаточно скудным, а количество свобод – минимальным.
Тем не менее, «базисное представление» прошлого, состоящее в том, что «от обычного человека ничего не зависит», тут сохранилось. Равно как сохранилась и идея о том, что «жить в правильном обществе лучше, чем в неправильном». (В том смысле, что даже в случае «цифрового фашизма» считается развитые страны не перестали быть привлекательнее неразвитых.) Более того: само наличие «тотального контроля» неявно указывает на то, что гражданин, в общем-то, небезразличен для государства. (И что какой-то минимум ему дадут в любом случае.)
Проще сказать, что «цифровизованный мир» оказывается таким «фашизмом на минималках». Точнее – не реальным фашизмом, конечно, но тем его образом, который наличествует в общественном сознании. С его «тотальной слежкой» и тем, что «ни одно действие неспособно произойти без решения государства». Собственно, именно это и рисуют сторонники подобной мифологии, которых немало находится среди правых. Дескать, не будет важна собственность и наличие денег, а важно будет иметь пресловутый QR-код/социальный рейтинг, по которым и будет осуществляться распределение благ. Подобная мысль, разумеется, выглядит для обывателя «страшной» - но все равно находящейся в рамках прежней картины мира. (В отличие от, например, мысли о том, что реальное благополучие – и сама возможность выживания – зависит от умения работать с «физическим миром», от знания его законов. Что для обывателя реально страшно.)
Иначе говоря: миф о «цифровом концлагере» - это тот же «глобализационный миф», только приспособленный к текущему положению, в котором уровень жизни падает вместе с количеством доступных свобод. (Потому, что первое тесно связано со вторым.) При этом «физическая реальность» в него все равно не попадает – вместе со всеми своими особенностями. (Вроде законов сохранения, с которыми у «глобалистов» - в смысле, у людей, которые были вознесены наверх гибелью СССР в 1991 году – всегда было очень плохо: см. ситуацию с «зеленой энергетикой».) А значит – этот миф оказывается так же комплементарным сознанию человека, сформировавшегося в «постсоветский период», как и начальный «глобализационный миф». (Он может выстраивать тут действенные – с т.з. модели – стратегии поведения.)
Правда, «срок жизни» у этой мифосистемы, судя по всему, будет еще меньше, нежели у предыдущей. Но об этом, понятное дело, надо будет говорить уже отдельно…
|
|
</> |

 Снежное сокровище / Snow Treasure / 1968
Снежное сокровище / Snow Treasure / 1968  Стой!
Стой!  Перейти Рубикон
Перейти Рубикон  Леди Луиза с мамой и другом на Sandringham Horse Driving Trials
Леди Луиза с мамой и другом на Sandringham Horse Driving Trials  Морские гиганты
Морские гиганты  Кражи, шпионаж, отупение. О плодах бездумной цифровизации
Кражи, шпионаж, отупение. О плодах бездумной цифровизации  Писать сейчас что-либо новое совершенно невозможно - за
Писать сейчас что-либо новое совершенно невозможно - за  Неслучайное фото
Неслучайное фото