
Почему провалился «проект Николая II». В продолжение предыдущего
 anlazz — 17.05.2019
anlazz — 17.05.2019
 Итак,
чтобы понять: почему «нациобилдинг» Николая Второго провалился,
следует рассмотреть его немного подробнее. И, прежде всего, еще раз
отметить, что пресловутое «строительство нации», которое последний
российский император сделал «главной темой» своего правительства,
было «позаимствовано» им из вне. А точнее – из Германской Империи
(она же Второй Рейх), где данный процесс благополучно осуществлялся
где-то с 1860 годов. Напомню, что до указанного времени Германия
представляла собой довольно рыхлый конгломерат разнообразных
королевств и княжеств, ведущий свою «родословную» от средневековой
Священной Римской Империи Германской Нации – естественно, к
позапрошлому столетию превратившейся в чистую условность.
Итак,
чтобы понять: почему «нациобилдинг» Николая Второго провалился,
следует рассмотреть его немного подробнее. И, прежде всего, еще раз
отметить, что пресловутое «строительство нации», которое последний
российский император сделал «главной темой» своего правительства,
было «позаимствовано» им из вне. А точнее – из Германской Империи
(она же Второй Рейх), где данный процесс благополучно осуществлялся
где-то с 1860 годов. Напомню, что до указанного времени Германия
представляла собой довольно рыхлый конгломерат разнообразных
королевств и княжеств, ведущий свою «родословную» от средневековой
Священной Римской Империи Германской Нации – естественно, к
позапрошлому столетию превратившейся в чистую условность.Тем не менее, после завершения Австро-Прусской войны – закрепившей главенство Пруссии над «немецким миром» - началась «пересборка» последнего, собственно, и приведшая к появлению нового государства. Ну, а после триумфальной победы над Францией в 1870 году Германская Империя неожиданно для всех оказалась не просто одним из сильнейших участников европейской политики – но ведущей силой в ней. Настолько ведущей, что стала напрямую угрожать британской политической гегемонии – той самой «блестящей изоляции», которая превращала викторианскую Великобританию в «мирового арбитра». (Со всеми вытекающими преимуществами.) Подобный успех можно было бы назвать «немецким чудом» - но подобного «термина» тогда, конечно же, не было. Тем не менее, современниками возвышение Второго Рейха прекрасно осознавалось – и, разумеется, служило не только предметом восхищения, но и подражания.
* * *
Правда, в том, чему следует подражать, понимания не было. Поскольку это сейчас мы понимаем, что основанием для возвышения Германии стал экономический подъем, связанный с удачным совпадением двух событий. К которым относится, во-первых, создание общего германского рынка на месте «локальных» рыночков указанных королевств и княжеств. А, во-вторых, очередная смена «технологической парадигмы» - состоящая в переходе от главенства текстильной (и вообще, легкой) промышленности к знаменитой «экономике угля и стали». В связи с чем новоявленный германский капитализм получал определенную фору по сравнению со «старыми» капитализмами Франции и Британии. Именно комбинация указанных фактов дала тот самый экономический взлет, на который опирался взлет политический.
Но это понятно сейчас – да и то, не всем. Тогда же, во второй половине XIX столетия, для большинства людей – особенно, тех, кто находились наверху «иерархических пирамид» – подобные идеи выглядели более, чем странно. Ну, в самом деле, что для представителя аристократии – а русский царь, разумеется, был, прежде всего, аристократом – тот же Крупп? Удачливый купец, не более. Главное же тогда виделось в другом – в способности предложенной аристократом Отто фон Бисмарком политики «единства, спаянного железом и кровью» превратить отдельные германские «народы» в единое целое. С точки зрения русских иерархов это было на порядок важнее, нежели какие-то заводы, угольные шахты и железные дороги. Правда, при этом стоит понимать, что наши властители не находили данный путь оптимальным – поскольку они видели в «бисмарковском пути» слишком много насилия. (Разумеется, под «насилием» тут подразумевается насилие, направленное исключительно против той же аристократии – народ в «зону зрения» российских аристократов, разумеется, не попадал.) И сами собирались сделать это же «любовью» - понятное дело, что не к простанорадью. (Тютчев в этом случае оказался прекрасным выразителем представления русских аристократов.)
Таким образом, можно сказать, что особенностью «российского взгляда» (взгляда российского правящего класса) по отношению к «германскому чуду» выступала известная «обращенность восприятия», связанная с очевидной недооценкой экономических основании данного процесса. И с очевидной переоценкой «верхушечных», политических и культурных деяний, связанных с ним. Собственно, последние и стали основой для формирования модели «национального строительства» - о которой и шла речь в прошлом посте. (Впрочем, тут стоит понимать, что примерно те же самые представления господствовали тогда во всем мире. Так что «наша» верхушка в данном случае ничем не отличалась от «других» верхушек.) Ну, и разумеется, отсюда же были сделаны и соответствующие выводы в отношении того, что нужно делать для модернизации страны. (Т.е., для превращения ее в действенную мировую силу.) Эти выводы состояли, во-первых, в признании самым важным идеи «единства нации». Ну, а во-вторых, в том, что данное единство должно, прежде всего, обеспечиваться единством власти вместе с единством культуры.
* * *
Собственно, после вышесказанного «поведение» российского самодержавия в последние десятилетия его существования, становится намного понятнее. Поскольку оказывается, что оно определялось вовсе не маниакальном стремлением к сохранению отживших форм правления и экономики – как это иногда объясняется. (Понятно, что речь тут не идет об «романовских апологетах» и иных монархистах – с ними, разумеется, все понятно.) А совершенно противоположным: уверенностью, что именно такой путь – сочетание монархической власти с «юнкерским» (т.е., помещичьим) земледелием – на самом деле является наиболее прогрессивным. (Подобный вывод, скажем, мог быть легко сделан на основании сравнения республиканской Франции и Германской Империи – где, понятное дело, Германия была на голову впереди.)
Правда, «по каким-то причинам», российские «юнкера» никак не хотели демонстрировать образцовые навыки хозяйствования – а, напротив, очень любили сдавать имения в залог, прокучивая полученные деньги в Парижах и Баден-Баденах. Данная «аномалия», конечно же, очень портила все блестящие картины «имперского будущего», которые рисовала для себя российская власть. Но понять настоящую основу указанного процесса – в том смысле, чтобы увидеть важность не просто экономического подъема, а экономического подъема, основанного на торжестве тяжелой промышленности – она, конечно же, оказалась неспособной. И уж конечно, она была неспособной увидеть те особенности, которые фактически сделали возможным данный промышленный взрыв – например, развитие массового образования. (Забавно: фраза Бисмарка «победу под Садовой одержал прусский школьный учитель» - была хорошо известна в России. Но реального ее осмысления властью не было – просто потому, что сама структура мышления российской аристократии была к этому не способна.)
Итогом данного восприятия и стала описанная уже политика Николая Второго. Который, во-первых, вполне отчетливо представлял стоящие перед страной проблемы. (В том смысле, что видел опасность потери Российской Империи ее положения «политического игрока» европейского уровня.) А, во-вторых, вполне рационально собирался их решать через использование «лучшей модели», имеющейся на тот момент. То есть – через массовое внедрения идей «русскости» (включавшей в себя огромную религиозную компоненту), а так же – «уважение к традициям». Кстати, пресловутый Распутин – вопреки всем «желтушным домыслам» - использовался императором не столько в качестве целителя для своего сына, сколько в качестве «представителя народа» при дворе. Поскольку Николая считал, что данный субъект способен показать «истинное лицо народа, не замутненное домыслами либералов» - отчего, собственно, и вытекали его известные заблуждения.) Но, разумеется, без учета экономики – которая полагалась вторичной.
* * *
И, разумеется, Николай потерпел катастрофическое положение – поскольку создание нации, как уже говорилось, всегда было экономическим процессом, связанным с формированием империалистического устройства. Т.е., устройства страны, в основании которого лежит крупное индустриальное производство, включающее в себя большую часть населения страны. Разумеется, «нациобилдинг» осуществлялся и до этого – скажем, считается, что та же «французская нация» была сформирована во время Великой Французской революции. Однако реальная эффективность этого процесса была на порядок меньше – прямо коррелируя со степенью концентрации производства. Поэтому реально завершение «нациостроительства» у французов можно отнести лишь к ко временам Второй Империи. Да и то, скорее к ее концу, нежели к началу. (Можно даже сказать, что французская «нация» родилась синхронно с немецкой – во время Франко-Прусской войны. Но это будет, разумеется, полная условность – поскольку, как уже было сказано, первична тут экономика.)
В результате –возвращаясь к изначальной теме – можно сказать, что те огромные средства, что были вложены в проект «русского возрождения» и «возврата к корням», в «преодоление петровского раскола страны» - который стал к концу XIX века таким же идефиксом, как и в конце века XX – оказались бессмысленными. Как оказались бессмысленными и не менее рациональные стремления к обеспечению «транспортной связность» огромной империи – все это строительство дорог и портов. Которое было, безусловно, нужным явлением – но совершенно недостаточным для решения поставленной задачи. (Поскольку использовалось, в основном, для перевозок зерна, произведенного в мелких малотоварных крестьянских хозяйствах, и реализуемого чуть ли не исключительно для оплаты государственных поборов.) Сюда же можно отнести и идею с перевооружением армии – которая, кстати, оказалась прекрасно реализованной, однако в совокупности со слабостью производственной базы сыграла, скорее, отрицательную роль в истории. (Создав ложное впечатление «русского парового катка» - т.е., несокрушимой военной мощи. Хотя реально эта самая военная мощь была классическим «колоссом на глиняных ногах» -т.е., не имела требуемой основы в виде развитого промышленного производства.)
Поэтому провал «русского нациобилдинга» был закономерен – в том смысле, что «российская нация» так и не была построена, поскольку она не могла быть построена без построения полноценного российского империализма. Включающего в себя, прежде всего, мощную тяжелую промышленность – ту самую «экономику угля и стали», которая в конце XIX века выступала базисом для более-менее самостоятельного существования страны. (Разумеется, в Российской Империи эта самая экономика развивалась – но со скоростью, гораздо более низкой, нежели это требовалось для успешного построения нации.) И, в конечном итоге, все закончилось очень и очень печально – в том смысле, что ставка на «создание надстройки» без затрагивания базиса привело только к тому, что с каждым годом имеющаяся «государственная конструкция» становилась все более и более шаткой. И, наконец, она совершенно закономерно обрушилась в роковом для Империи 1917 году –несмотря на то, что еще три года назад казалось, что народ готов отдать жизнь за царя, Веру и Отечество.
Правда, Россия тогда смогла выкарабкаться – и даже осуществить последующий рывок в сверхдержавы. Но, разумеется, сделано это было уже на основании совершенно иных представлений – которых у дореволюционной верхушки страны быть не могло по определению. Но это, разумеется, уже совершенно иная история.
P.S. Кстати, и у Германии, как известно, все сложилось «не айс». В том смысле, что немецкий империализм нацию, как известно, сформировал – но смог использовать ее только, как «топливо» для бессмысленной Мировой бойни. (А точнее – двух мировых боен.) В результате чего данная «немецкая нация» оказалась настолько дискредитированной, что нынешний фактический отказ от нее стал неизбежным. Так что неизвестно еще, кому тут повезло.
P.P.S. Наверное, не надо говорить, что вопрос о «строительстве российской нации» актуален не только в историческом смысле. Поскольку нынешняя власть практически один в один повторяет действия своих далеких предшественников…

 Скупка швейцарских часов: как превратить престиж в ликвидный актив быстро и безопасно
Скупка швейцарских часов: как превратить престиж в ликвидный актив быстро и безопасно  Таганрог, 2025 год
Таганрог, 2025 год  Фотовыставка Евгения Халдея в Сарове
Фотовыставка Евгения Халдея в Сарове  Речные узоры
Речные узоры  музыкальное, актуальное
музыкальное, актуальное  Двойственность
Двойственность  Памятник властного бессилия...
Памятник властного бессилия...  Сорренто. Церковь Св. Франциска.
Сорренто. Церковь Св. Франциска. 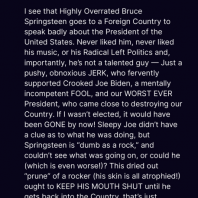 Всё-таки называть Доника проходимцем не совсем корректно.
Всё-таки называть Доника проходимцем не совсем корректно. 



