Шеймус Хини (13.4.1939 — 30.8.2013)
 maiorova — 30.08.2021
Исчезающий остров
maiorova — 30.08.2021
Исчезающий островЕдва мы свыклись с тем, что обживать
Придётся этот каменистый брег,
И, продрожав и промолившись ночь,
Собрали топливо и над костром
Повесили котёл, как небосвод, —
Распался этот остров, как волна.
Твердь, за которую схватились мы,
Лишь в миг отчаянья казалась твердью.
На самом деле это был мираж.
Воздушный корабль
В анналах Клонмакнойса есть рассказ:
Однажды братья собрались в молельне,
Как вдруг явился в воздухе корабль.
Он плыл над ними высоко; но якорь,
Влачась на длинном тросе, зацепился
За створки алтаря, и судно встало.
Один смельчак спустился по канату,
Чтоб якорь высвободить… да куда там!
“Не подсобим — он здесь у нас утонет”, —
Сказал аббат. Монахи подсобили.
Корабль поплыл; матрос полез обратно —
Рассказывать о чудесах глубин.
(перевод Г. Кружкова)
Из Нобелевской лекции:
Один из самых душераздирающих моментов за те годы, что разрывалась душа Северной Ирландии, приходится на день и час, когда январским вечером 1976 года мини-автобус с рабочими, которых развозили по домам, остановили вооруженные люди в масках и, целясь из автоматов, приказали пассажирам выйти и выстроиться вдоль дороги. «Всем католикам шаг вперед!» — гаркнул один из палачей. По чистой случайности в этой группе все рабочие, за исключением одного, были протестантами, поэтому их первой мыслью, видимо, было, что люди в масках принадлежат к военизированной организации юнионистов и собираются пристрелить единственного католика, «разумеется», симпатизирующего ИРА. Этот единственный католик пережил ужасные мгновения, ощущая себя одновременно свидетелем и жертвой, однако после мучительных раздумий он решил все же сделать шаг вперед. И тут, в эту самую долю секунды, под спасительным прикрытием ранних зимних сумерек он почувствовал вдруг, как стоящий рядом рабочий-протестант нащупал его руку и сжал ее: мол, не двигайся, мы тебя не выдадим, никто не узнает, какой ты веры, к какой партии принадлежишь. Рукопожатие, однако, запоздало: католик уже выходил вперёд — но вместо того чтобы получить пулю в висок, он был отброшен куда-то в сторону, и в тот же миг террористы открыли огонь по оставшимся стоять у дороги. Террористы оказались не протестантами, а членами Временной ИРА.
Иногда бывает трудно отделаться от мысли, что история не более поучительна, чем скотобойня...
(перевод А. Ливерганта)
Ещё одно довольно длинное и страшное, тоже в переводе Кружкова:
Из поэмы “Остров покаяния”
Я стоял над водой у самого края,
заглядевшись вглубь, как в барометр ясный
или в зеркало, успокаиваясь и остывая,
как вдруг — не то чтоб там возникло
отраженье — но я почувствовал рядом
чью-то тень, и голос меня окликнул
по имени. Сосредоточенный на попытке
расслабиться, я повернул с неохотой
голову... О, никогда не забыть мне
этого зрелища! Его лоб над бровью
был прострелен насквозь, а щека и шея
залиты бурой засохшей кровью.
“Это я! Не бойся! Помнишь, как жутко
обдирались мы на футболе?.. Слушай:
я проснулся в ту ночь от громкого стука,
стука в дверь, внизу. Как звонок телефона
на рассвете, он оглушил и встревожил.
И тогда, не включая огня, полусонный,
я наружу выглянул из-за шторы
и увидел двух человек у порога
и с раскрытыми дверцами старый лендровер
у обочины. Тотчас, будто по знаку
шевельнувшейся шторы моей, эти двое
закричали, чтоб я спускался в лавку.
Жена заплакала и заметалась в кровати,
даже не спрашивая спросонья, кто там,
а только жалуясь и причитая. «Хватит!
С тобой, ей-богу, можно рехнуться», —
прорычал я — совсем не со зла, а просто
чтобы самому немного встряхнуться,
так мне было не по себе в ту минуту,
а от её воя хуже вдвое:
и смертельно хотелось спать почему-то...
А внизу продолжали орать: «Хозяин!
Эй, хозяин!» Тогда я накинул куртку
и крикнул в окно: «Потише нельзя ли?
Что вам нужно?» — «Ребёнок болен.
Поищи-ка, нет ли в лавке микстуры
или порошков каких-нибудь, что ли», —
объяснил один, отступив от порога
на полшага, и в бледном фонарном свете
я узнал его; узнал и другого.
В тишине, наступившей ещё тревожней
стало; всхлипы жены затихли;
она только шептала: «О, боже, боже!» —
и твердила «Ведь у нас не аптека, —
глядя застывшими большими глазами. —
Чего им надо ночью от человека?
Ты их знаешь?» — «Я знаю тут всю округу,
этих тоже». Но что-то меня толкнуло
наклониться к постели и сжать ей руку,
прежде чем спуститься в холодный сумрак
магазина. В ногах я чувствовал вату.
И ещё вспоминаю какой-то смутный
запах, — будто вчерашней стряпнёю
потянуло с кухни, пока я шёл к двери.
Впрочем, сам ты знаешь всё остальное”.
«Они хоть что-нибудь сказали?» — «Ни слова».
«Они были в форме? Может быть, в масках?» —
«О нет, они выше всех маскировок, —
дерьмо, считающее себя вправе и в силе».
Я сказал поспешно: «Это — не в утешенье,
но знай: их нашли и посадили».
Добродушный верзила, он стоял предо мною,
вспоминая... И казалось, в его дырявой
голове всплывало что-то смешное.
Он ухмыльнулся: «А ты, брат, сильно
раздобрел с той поры, как возил девчонок
вечерами в одолженном лимузине».
Жизнь и смерть не сделали в нём перемены,
он всегда отличался особым лоском
и опрятностью истинного спортсмена;
если б не рана на лбу — всё тот же
полузащитник в синей футболке
и накрахмаленных пижонистых шортах:
идеальная, неправдоподобная жертва.
«Прости, — сказал я вдруг, — соучастье
моей мысли трусливой и жизни инертной».
«Брось, — ответил он. — Слишком это мудрёно
для моей головы, да и беспокойно».
И внезапно, как судорогой пронзённый,
задрожал — и растаял дымкою знойной.
Когда Хини приезжал в Петербург, я, конечно же, пошла и слушала, как он читает и как отвечает на вопросы. Сама свой вопрос не задала, неловко показалось, а вопрос был такой: страшно ли быть поэтом.
|
|
</> |

 Преимущества онлайн-занятий с репетитором по подготовке к школе
Преимущества онлайн-занятий с репетитором по подготовке к школе  Високосные итоги года
Високосные итоги года  ЯРМАРКИ ЖДУТ
ЯРМАРКИ ЖДУТ  Гостиница "Москва"
Гостиница "Москва"  Зажгли на Новый год
Зажгли на Новый год  Помидоры
Помидоры  Снег, порядок и самосозерцание
Снег, порядок и самосозерцание  Про странную встречу с уличным фотографом
Про странную встречу с уличным фотографом 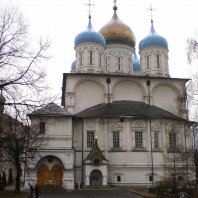 Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций
Новости архитектуры и реставрации. Обзор интересных публикаций 



