С. Д. Мстиславский. Бачебазство в Средней Азии
 rus_turk — 05.07.2025
rus_turk — 05.07.2025

Танец бачей в Ташкенте
Положение среднеазиатской женщины вызвало развитие так называемого бачебазства.
Бача — это, собственно, мальчик, танцор, подчас певец, и только. Такова теория. Но, как всегда, практика несколько расходится с теорией. И если мы, с одной стороны, находим целые артели — джуры, которые сообща содержат бачу, наслаждаются его пляской и пением и зорко оберегают его от слишком грубых ухаживаний, то, с другой стороны, мы могли бы не затрудняясь привести и совсем иные факты, достаточно известные в Самарканде и Бухаре.
Что бы ни говорили о влиянии женщины на мужчину, в общем оно всегда было и будет не развращающим, а облагораживающим. Но бача… неужели этот мальчик, в пестром шелковом халате, в вышитой золотом тюбетейке, из-под которой торчат космы черных непослушных волос, — мальчик, иногда уже сильно бреющийся, может заменить для таджика женское общество?
Как это ни странно для нас, но туземцы смотрят на все эти вещи совсем не так, как мы. Туземцы вообще смотрят несколько свысока на русских. Они считают себя выше, развитее европейцев. В их глазах русские и вообще европейцы те же варвары, какими были скифы в глазах греков. Напомню кстати, что у древних греков любовь к юношам играла не последнюю роль. Взгляд туземцев на европейца особенно сказывается в области музыки и танцев. Абсолютно нельзя доверять путешественникам, которые, побывав проездом в Самарканде или Бухаре, спешат заявить, что таджики, как в все среднеазиатцы, немузыкальны в высокой степени. Нет, они несомненно музыкальны, но лучшие мотивы свои вместе с искусством сохраняют для более нежных, по их мнению, ушей своих соплеменников. А русского, по их мнению, — чем ни угости, — все будет хвалить. Этому взгляду отчасти способствовали и сами русские, из вежливости расхваливавшие каждую какофонию, которую обязательно преподносили им туземцы.
Во время моей поездки в 1897 г. к верховьям Зеравшана, ко мне присоединился известный всему равнинному Туркестану певец Абдул-Азисов, отправлявшийся в артистическое tournée.
Я имел уже не раз случай слышать его на разных празднествах (надо прибавить, у русских), и, говорю откровенно, он мне не понравился. Но теперь, в первый же вечер, когда мы, усталые, утомленные тяжелым дневным переходом по раскаленным утесам гор, расположились на ночлег, когда по просьбе хозяина Азис взял дутор (инструмент вроде балалайки) и комната наполнилась горцами, с любопытством оглядывавшими меня — единственного европейца в их обществе, — только тогда я понял, почему Азис пользовался такой популярностью. Я не узнал инструмента, не узнал певца. Каким образом умудрялся он извлекать из двух струн своего дутора такие звуки — Бог его знает. Но я слушал его в продолжение часа с таким напряжением и подчас волнением, какого давно уже не испытывал. Когда он кончил, я спросил его, почему он раньше никогда не пел так? Он пожал плечами: «Певец поет хорошо, когда чувствует, что его понимают».
Мы отвлеклись в сторону. Но мне хотелось указать, что и там, где дело касается бачей, нам, европейцам, показывают жалкие отбросы, которыми кишат трущобы Самарканда и Ташкента. Понятно, что здесь уже не может быть никакой иллюзии, и мы, пожимая плечами, дивимся, как можно предполагать, что бача является продуктом не проституции, а чего-либо другого.
Разврат больших городов, действительно, наложил свое клеймо на бачей. Положение их само собой напрашивается на сравнение с нашими кафешантанными балеринами. Сходство профессии, скользкий путь, по которому им приходится идти, масса соблазнов — все это обще. А раз падение совершилось, оно идет crescendo, мало-помалу отодвигая на задний план первоначальные занятия, и конечным результатом являются уличные женщины Петербурга и злополучные бачи темных кварталов Самарканда. Но, повторяем, первое и настоящее назначение бачи — профессия танцора, и только; кроме того, он должен был заполнить в мужском обществе пробел, оставленный женщиной. Но где доказательства этому?
В горах восточной части Самаркандской области затерян среди ущелий и снежных вершин кишлак Дорх
| Солнце — ничто перед твоей красотою! Всех очаровали, всех привлекли твои чудные очи! Ты, ты одна завладела мною. |
Бача сдвигает брови.
— Пустяки, — отрезал он.
Но Сафар не смущается.
| Увидев тебя, я бросился бы на твою шею, Но ты с нежностью меня оттолкнула, И я сказал: царица, не губи меня! За твой поцелуй я отдал бы все, что имею! |
— Пустяки, — хладнокровно отвечает бача.
Восторг зрителей растет.
| Твой стан стройнее тополя, Твое лицо, как распустившаяся роза, Щеки, как жасмин Персии… |
— Правда, — говорит бача, усмехаясь, и вызывает целый взрыв восторженных восклицаний.
| Я твой преданный раб, царица, — |
продолжал Сафар, —
| И будь я святым из святых ислама, Я отдал бы рай и блаженство, да простит мне Бог, За твою пленительную ласку. |
Но бача только смеется.
Опустим занавес над этой картиной, вернемся к прозе. Попытаемся подвергнуть анализу то, что только что происходило перед нашими глазами. Прежде всего, мне кажется, что вместе с мужским костюмом бача сбрасывает и все мужское, если можно так выразиться, и превращается в грациозную, кокетливую женщину, какой вы не найдете во внутренних дворах таджикских домов, хоть переройте их все до единого. Мне кажется, что все присутствовавшие до такой степени поддались иллюзии, что видели в баче самую настоящую женщину; могу сказать, что я сам был недалек от этого. И эта женщина кокетничает, заставляет за собою ухаживать, дарит свою благосклонность одним, отвергая других. А те, настоящие женщины внутренних дворов, дрожат при виде мужа, спешат рабски покорно исполнить его малейшее желание, отдаются ему холодно и беспрекословно. Результаты налицо. В то время, когда настоящий прекрасный пол получает крохи со стола господина, — заместитель их, бача, приводит того же мужчину в восторг, если согласится отпить глоток из его чашки с чаем. Характерный факт: присутствовавшие ни разу не назвали бачу иначе, как «она, красавица», — все время, пока он был в женском костюме и плясал. Новое доказательство того, что пылкая фантазия таджиков видела в этой, действительно женоподобной фигурке — настоящую женщину. Наше положение доказывается также почти совершенным отсутствием бачей в горах. Там чище нравы, там проще люди, — скажут мне. Пусть так! Но нравы чище потому, что женщина там человек, а не домашняя утварь; если есть настоящая женщина — нужна ли подделка под нее?
Но разврат больших городов, повторяем, не мог не коснуться бачей. Их стало очень много, этих мальчиков в пестрых халатах. Многие из них даже и танцовать не умеют. Эти-то «нетанцующие танцоры» и составляют одну из общественных язв Туркестана, особенно нерусского.
Правда, бачебазство распространено исключительно между
купцами и вообще богатым классом; в низшие слои оно, по счастью,
еще не проникло. Да и удовольствие это не из дешевых. Пойдите в
базарный день на площадь в Бухаре, или Каршах, или другом крупном
центре Бухарского ханства. Ваш взгляд невольно привлечет группа
туземцев в шикарных халатах, белоснежных чалмах; впереди такой
группы вы заметите знакомую вам фигурку с самонадеянным и гордым
лицом. Это бача и его обожатели. За каждым движением его следят,
каждое слово ловят, каждое желание предупреждают. Он загляделся на
пеструю тюбетейку, которую догадливый патрон выставил ему на
глаза — один из обожателей уже отсчитывает «теньги»
Другие материалы по
данной теме:
• В.
И. Кушелевский.
• В. В.
Верещагин.
• Н. С.
Лыкошин. Долой бачей;
• Н. П.
Остроумов. Сарты. Этнографические материалы;
• Н.
П. Остроумов.
• Г. В.
Андреев. Закулисные
• Г.
В. Андреев. «Гап»:
• Е. К.
Мейендорф. Путешествие
• А.
К. Гейнс. Дневник 1866 года.
• В.
В. Радлов. Средняя Зерафшанская долина;
• А.
Д. Гребенкин. Таджики;
• Н.
А. Маев. Две недели в Шахрисябзе;
• Н.
Н. Каразин. Докторша;
• Г.
А. Арандаренко. Малоизвестные
• Г. А.
Арандаренко. Между
• Г.
Крафт. Через Русский Туркестан;
• Н.
Л. Корженевский. Той:
• А.
В. Нечаев. По Горной Бухаре:
• там
же.

 Как выбрать лучшего интернет-провайдера для дома по качеству соединения в России
Как выбрать лучшего интернет-провайдера для дома по качеству соединения в России 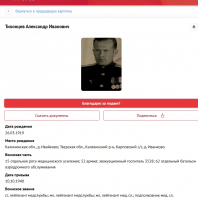 Сестра нашла в цифровых облаках
Сестра нашла в цифровых облаках  Изучаем английский на смартфоне: 10 приложений, которые реально помогают
Изучаем английский на смартфоне: 10 приложений, которые реально помогают  Цитата дня
Цитата дня  На мхах!
На мхах!  Тома Шлессер. Глаза Моны
Тома Шлессер. Глаза Моны  Хроника Великого Исхода. Из горожанок в крестьянки
Хроника Великого Исхода. Из горожанок в крестьянки  Новые символы исторической усадьбы
Новые символы исторической усадьбы  Микрорайон Чертаново. Очарование советской архитектуры.
Микрорайон Чертаново. Очарование советской архитектуры. 


