Профессор МГУ Владислав Смирнов. "Тоталитарное сознание"
 philologist — 17.02.2018
Владислав Павлович Смирнов (род. 1929) — советский и российский
историк, специалист по истории Франции. Заслуженный профессор
Московского университета (2012), лауреат премии имени М.В.
Ломоносова за педагогическую деятельность (2013). В 1953 году В.П.
Смирнов окончил исторический факультет МГУ, затем стал аспирантом,
а с 1957 г. начал работать на кафедре новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ, где прошел путь от ассистента до
профессора. Ниже приводится фрагмент из его книги: Смирнов В.П. ОТ
СТАЛИНА ДО ЕЛЬЦИНА: автопортрет на фоне эпохи. – М.: Новый
хронограф, 2011.
philologist — 17.02.2018
Владислав Павлович Смирнов (род. 1929) — советский и российский
историк, специалист по истории Франции. Заслуженный профессор
Московского университета (2012), лауреат премии имени М.В.
Ломоносова за педагогическую деятельность (2013). В 1953 году В.П.
Смирнов окончил исторический факультет МГУ, затем стал аспирантом,
а с 1957 г. начал работать на кафедре новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ, где прошел путь от ассистента до
профессора. Ниже приводится фрагмент из его книги: Смирнов В.П. ОТ
СТАЛИНА ДО ЕЛЬЦИНА: автопортрет на фоне эпохи. – М.: Новый
хронограф, 2011.
Тоталитарное сознание
Тем, для кого сталинский режим – далекое прошлое, трудно понять психологию граждан тоталитарного общества и особенности тоталитарного сознания. Почему, казалось бы, неглупые и образованные люди верили официальной пропаганде и не видели того, что творилось у них под носом? Я думаю, прежде всего потому, что официальной идеологией советского общества были благородные идеи освобождения трудящихся и всего человечества от угнетения и нужды, от войн и эксплуатации человека человеком. Советская пропаганда объясняла, что вековые мечты человечества о счастье и свободе уже начали осуществляться в Советском Союзе, строящем коммунизм. Конечно, у нас еще много недостатков и трудностей, но непреложные законы истории, открытые Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным, неизбежно приведут к крушению капитализма и победе коммунизма во всем мире. Эта пропаганда подкреплялась высшими духовными и научными авторитетами – самыми знаменитыми писателями, артистами, учеными, в том числе и нашими уважаемыми преподавателями.
Так создавался мифический образ страны и мира, в котором мы жили, а известно, что «мифологическое сознание» обладает большой устойчивостью. Подобно религиозному сознанию, оно способно не замечать или не воспринимать факты, не соответствующие мифу. Я где-то читал о поразительном психологическом опыте: десяти испытуемым давали попробовать сладкий порошок, а потом спрашивали, какого он вкуса? По предварительному уговору с экспериментатором, девять первых испытуемых отвечали, что порошок горький. Тогда десятый приходил в полное смятение и часто тоже говорил «горький», хотя его собственные чувства свидетельствовали об обратном. Нечто подобное я наблюдал, когда известного украинского поэта В.Н. Сосюру, награжденного высшим в СССР орденом Ленина и Сталинской премией, вдруг обвинили в «национализме» за стихотворение «Люби Украину». В общежитии несколько студентов высказали свои сомнения, и тогда наш парторг Миша Волков сказал замечательную фразу: «Я тоже не увидел национализма в стихотворении Сосюры, это значит, что я еще плохо разбираюсь». В самом деле, как сказать «нет», если все кругом, включая самых авторитетных и почитаемых людей, говорят «да»?
Тоталитарное сознание порождала и укрепляла вся обстановка сталинского режима. Как свидетельствует история, авторитарные и тоталитарные режимы часто возникают после серьезных общественных кризисов, революций и гражданских войн. Они приносят с собой стабилизацию и некоторый порядок – чудовищный по меркам демократических стран, но все же порядок, который кажется желанным после революционного хаоса и гражданской войны. С разгромом внутрипартийной оппозиции политическая жизнь в СССР фактически прекратилась. Открытые политические дискуссии стали смертельно опасными. Политические вопросы, чреватые всякими неприятностями, «простые люди» не задавали и не обсуждали. Мне кажется, отношение огромного большинства жителей СССР к власти напоминало в это время отношение зрителей к театру: актеры играют хорошо или плохо, но это их, а не наше дело. Зрители живут сами по себе. Им не приходит в голову давать советы актерам или протестовать против неправильной режиссерской трактовки.
Немаловажное значение имела такая, казалось бы простая вещь, как фразеология. Постоянно повторявшиеся, навязшие в зубах стандартные фразы «гениальный вождь и учитель», «великий, могучий Советский Союз», «в странах, освобожденных от капиталистического гнета» или, наоборот, «народы, стонущие под игом капитала», «англо-американские поджигатели войны», «коварные замыслы иностранных разведок», «буржуазные фальсификаторы истории» застревали в памяти, создавали определенный умственный и психологический настрой, которому было трудно противостоять, формировали общественное мнение. Способность обобщать и анализировать события встречается не часто. Далеко не все могут самостоятельно преодолевать «мифологическое сознание» и трезво оценивать общество, в котором живут. Мы с детства жили в тоталитарном обществе и другого общества не знали. Оно казалось нам нормой, а с нормой не спорят, ей следуют.
Конечно, такое состояние умов возможно лишь при отсутствии оппозиции, при полной государственной и партийной монополии на информацию. Мы, студенты, читали только советские газеты и слушали только советское радио. Зарубежные газеты имелись лишь в «спецхранах» научных библиотек. Зарубежные передачи на русском языке, вроде «Голоса Америки» обитатели общежития слушать не могли и не хотели, их заглушали мощным ревом «глушилок», который можно было услышать далеко вокруг. Те, кто несмотря ни на что, пытались послушать зарубежное радио у себя дома, об этом помалкивали. Они опасались доносов бдительных соседей, которые могли бы услышать шум «глушилок» и заподозрить неладное. В результате советские граждане очень многого не знали. Мы, например, не знали, что Ленин последние годы своей жизни находился в параличе, потерял речь, мы не имели сколько-нибудь достоверных данных о военных потерях СССР, совсем никаких сведений о масштабах сталинских репрессий, о голоде 1932–1933 и 1946 годов, о «ленинградском деле», о расстреле руководителей Еврейского антифашистского комитета и о множестве других событий, происходивших в нашей стране и за рубежом. Даже о сенсационном и политически абсолютно нейтральном путешествии Тура Хейердала на плоту «Кон-Тики» через Тихий океан, совершенном в 1947 г., нам сообщили лишь через 8 лет, уже после смерти Сталина.
Казалось бы, жизнь при тоталитарном режиме в удушливой атмосфере постоянной навязчивой пропаганды и угрозы репрессий должна быть сплошным кошмаром, но мне и моим друзьям того времени она представлялась вполне нормальной. Студенты, по самому своему положению учащихся, оставались в значительной степени в стороне от реальной жизни. Главное место в их душах занимала вовсе не идеология или политика, и даже не учеба, а молодая радость жизни, любовь, дружба. Воспитанные в советском духе школой и комсомолом, а часто и родителями, более или менее смутно ощущавшие свою принадлежность к будущей элите общества, совсем еще юные и неопытные, студенты не слишком хотели видеть темные стороны советской действительности и задумываться над ними, тем более что это нарушало душевное спокойствие и было небезопасно. Всякого рода несправедливости они воспринимали как «отдельные недостатки», не связывая их ни с советской властью, ни с марксизмом-ленинизмом, ни со Сталиным.
Когда наши студенческие годы остались уже далеко позади, Миша Вассер как-то рассказал мне, что, вернувшись с фронта в родной Кременчуг, он отправился к секретарю Горкома партии, чтобы встать на партийный учет и устроиться на работу. Секретарь принял его очень холодно и сказал, что нет никакой работы, кроме работы грузчика. Миша не заподозрил, что, не будь он евреем, для него нашлась бы другая работа. Некоторое время он работал грузчиком и одновременно готовился к поступлению в Московский Институт международных отношений в полной уверенности, что его – коммуниста-фронтовика, участника Парада Победы, окончившего школу с аттестатом отличника – туда обязательно примут. Миша прошел предварительное собеседование в приемной комиссии, по его мнению, успешно, но в коридоре его догнал присутствовавший на собеседовании секретарь Комитета ВЛКСМ, тоже бывший фронтовик, и сказал: «Слушай, тебя здесь все равно не примут. Возьми документы и иди в МГУ – там принимают». Миша так и сделал, но говорил мне, что даже в тот момент у него не возникло мысли о дискриминации евреев, он объяснял все злокозненностью членов приемной комиссии.
Мне кажется, сильно влиял на наше поведение страх. Это не был постоянный липкий страх, описанный, например, в повести Б. Ямпольского «Московская улица», – страх слежки, томительное ожидание обыска и ареста. Скорее, это был страх нарушить каие-то правила, переступить некие границы и оказаться в опасном положении. Пожалуй, его можно сравнить с опасениями пешехода на опасном перекрестке: легко угодить под автомобиль, надо оглядываться по сторонам. Я, как, видимо, и многие другие советские люди, очень хорошо понимал, что можно попасть в тюрьму за какой-нибудь анекдот или разговор, что «болтать лишнее» не следует, а рассуждать на политические темы можно только с «надежными» друзьями, но это казалось мне вполне естественным.
Время от времени до нас доходили слухи, что кого-то «взяли» или он просто исчез. На первом курсе лекции по основам марксизма-ленинизма нам читал профессор В.Г. Юдовский – седой, представительный, в темных очках. Говорили, что он старый большевик – это было очень почетное звание. Лекции Юдовский читал хорошо – интересно, ясно, понятно, но вдруг он исчез. Я подумал, что его уволили или, может быть, «посадили», но никто из студентов ничего не знал, да и не сильно интересовался его судьбой. Лишь совсем недавно, перелистывая сборник недавно опубликованных документов о борьбе против «космополитизма», я прочел там, что в марте 1949 г. партийное собрание кафедры марксизма-ленинизма МГУ приняло постановление, в котором говорилось, что ряд преподавателей допускает «грубые политические ошибки» космополитического характера, в частности «профессор Юдовский в своих статьях и лекциях протаскивал враждебные идеи “о единой мировой науке”, “о мировом всечеловеческом единстве народов”, принижал революционное значение русского рабочего класса, умышленно отвлекал внимание студентов и аспирантов от изучения и разработки вопросов современного периода».
Партийное собрание потребовало отстранить от работы Юдовского и других «космополитов», и Юдовского немедленно уволили вместе с Минцем, Разгоном, Рубинштейном, Звавичем, и Зубоком1. В том же 1949 г. Юдовский умер – я не знаю где и как. Незадолго до окончания МГУ, придя однажды на факультет, я увидел, что в расписании зачеркнута фамилия академика И.М. Майского, бывшего посла СССР в Великобритании и заместителя министра иностранных дел, который после отставки работал в Институте истории и на истфаке МГУ. Я спросил лаборантку, что произошло. Сделав страшные глаза, она сказала: «Тише!» и прошептала мне на ухо: «Взяли!» Я не испугался и не удивился: ну, взяли и взяли, значит, было за что. Я даже не подумал, что такой известный государственный деятель (которого через несколько лет освободили и полностью реабилитировали) мог быть невиновен, я только посочувствовал его дипломникам, которые остались без руководителя.
У нас на курсе, кажется, не было арестов, хотя, как я узнал из анонимной анкеты 1993 г., кого-то из моих сокурсников «вызывали на Лубянку», видимо, без серьезных последствий. Я знал, что отца Андрея Авдулова до войны арестовали – Андрей этого не скрывал. Был уверен, что именно поэтому Авдулова, получавшего на всех без исключения экзаменах только «пятерки», не взяли в аспирантуру, но думал, что это прискорбная ошибка. Об арестах родственников других однокурсников я тогда ничего не слышал. На такие темы мы – и не только мы – обычно не разговаривали. Однажды я написал, что они находились на периферии нашего сознания. Прочитав это, мой старый друг, профессор А.В. Адо, окончивший истфак в 1950 г., пометил на полях: «Да, вот это точно – на периферии сознания». Далее он добавил: «Помню, что у многих товарищей родители были репрессированы, но мы всегда считали, что это ошибка. А вообще эта тема, насколько я помню, практически не возникала в разговорах; её как бы не было». Наша психология во многом напоминала психологию элоев из «Машины времени» Г. Уэллса. Элои знали, что ночью из подземелий выходят страшные морлоки, которые пожирают элоев, но говорить и даже думать об этом считалось неприличным.
Действенным средством контроля над поведением и мыслями служили партийные, комсомольские и другие общественные организации. Как только мы, первокурсники, появились на истфаке, нас сразу зачислили в «кружки по изучению биографии товарища Сталина», потом назначили «агитаторами среди населения», записали в профсоюз, в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), еще куда-то.
Даже простое пребывание в таких организациях, присутствие на собраниях, а еще обязательное участие в выборах депутатов в Советы разного уровня, в праздничных демонстрациях, в ежегодной подписке на государственные займы, формировали конформистский тип сознания и поведения. Неучастие в выборах, в подписке на заем и в других «мероприятиях» могло повлечь неприятные последствия. Один из студентов нашего курса, в шутку сказавший, что он не желает платить членские взносы в ДОСААФ, потому что борется за мир, поплатился за свое остроумие разбором «персонального дела» на комсомольском собрании.
Теперь я знаю, что некоторые мои сокурсники начали раньше меня задумываться над положением в нашем обществе и преодолевать «тоталитарное сознание». Для одних исходной точкой послужила деятельность Коминформа, для других – дискуссия по языкознанию, для третьих – кампания против космополитизма или еще что-то. Одна из сокурсниц впервые задумалась над положением в СССР, когда прочла в американском романе фразу: «Семья ютилась в пяти небольших комнатах». У меня вызвало сомнение дело «врачей-убийц». Безымянные американские «рабовладельцы-людоеды», отдающие директивы об истреблении руководящих советских деятелей, выглядели как-то странно. Лишь один из обвиняемых признал, что получил такие директивы, причем их передал «известный еврейский буржуазный националист Михоэлс», которого в 1948 г. похоронили с большими почестями. Щербаков и Жданов действительно скончались, Щербаков еще в 1945 г., а Жданов в 1948 г., но все генералы и маршалы, которых «врачи-убийцы» собирались вывести из строя, продолжали здравствовать. Все это в соединении с новой антисемитской кампанией заставляло задуматься.
Вы также можете подписаться на мои страницы:
- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy
- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky
- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy
- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/
- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky
- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky
|
|
</> |

 Особенности и преимущества линейного полиэтилена
Особенности и преимущества линейного полиэтилена  Обзор круизного лайнера Celestyal Journey
Обзор круизного лайнера Celestyal Journey 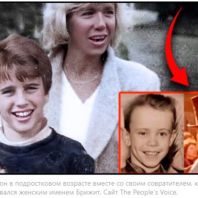 Французский презик и его ориентация.
Французский презик и его ориентация.  И еще немного раскрашенных старинных фото. До и после.
И еще немного раскрашенных старинных фото. До и после.  Москва / 2025 / Январь / 11
Москва / 2025 / Январь / 11  Когда «красные» и «белые» участвовали в войне на одной стороне?
Когда «красные» и «белые» участвовали в войне на одной стороне?  Как нейросеть видит кота из России...
Как нейросеть видит кота из России...  И эти америкосы учат нас не ковыряться в носу?!!(США, 1964, афроамериканцев
И эти америкосы учат нас не ковыряться в носу?!!(США, 1964, афроамериканцев  "Повторно вернуться в родные края - 2"
"Повторно вернуться в родные края - 2" 


