
Проблемы СССР – как следствие быстрой урбанизации
 anlazz — 04.03.2020
anlazz — 04.03.2020
 На самом деле
берясь за рассмотрение «советского прошлого» надо, прежде всего,
четко усвоить одну простую истину. А именно – понять, что СССР был
государством не только переходным от эксплуататорской формации к
будущему коммунизму. Но и – государством, совершающим очень быструю
урбанизацию. Причем, самую быструю урбанизацию изо всех развитых
государств, во время которой население городов увеличилось с 20% от
общего населения страны в 1930 году до 65% в 1980. То есть, всего
за полвека страна превратилась из почти полностью сельской в
преимущественно городскую. Более того, для понимания «начальных
условий» следует учитывать, что и пресловутый «город образца 1930
года» - за исключением, наверное, Москвы, Ленинграда и, немного,
Киева – в начале данного пути в нашей стране не сильно отличался от
деревни. (Скажем, наличие огорода и даже скотины, и, напротив,
отсутствие канализации и водопровода было характерной чертой
российского «доурбанизационного» города.)
На самом деле
берясь за рассмотрение «советского прошлого» надо, прежде всего,
четко усвоить одну простую истину. А именно – понять, что СССР был
государством не только переходным от эксплуататорской формации к
будущему коммунизму. Но и – государством, совершающим очень быструю
урбанизацию. Причем, самую быструю урбанизацию изо всех развитых
государств, во время которой население городов увеличилось с 20% от
общего населения страны в 1930 году до 65% в 1980. То есть, всего
за полвека страна превратилась из почти полностью сельской в
преимущественно городскую. Более того, для понимания «начальных
условий» следует учитывать, что и пресловутый «город образца 1930
года» - за исключением, наверное, Москвы, Ленинграда и, немного,
Киева – в начале данного пути в нашей стране не сильно отличался от
деревни. (Скажем, наличие огорода и даже скотины, и, напротив,
отсутствие канализации и водопровода было характерной чертой
российского «доурбанизационного» города.)В подобном положении не стоит удивляться тому, что подавляющее число советских граждан «образца 1950 года» имела сельское происхождение. Более того, даже к упомянутому 1980 году подавляющее число горожан «трудоспособного возраста» были горожанами в первом поколении – ситуация в подобном плане изменилась лишь к 2010 годам! Ну, а сельские жители, в свою очередь, неизбежно должны были принести в город и свои привычки, нормы и правила. (Опять-таки, напомню, что даже «формальные» города до условных 1950-1960 годов имели, в большинстве своем, сельский «образ жизни». Поэтому даже «формальные» горожане во втором и более поколении, в большинстве своем, не сильно отличались от селян.) Разумеется, часть из них – имеется в виду, привычек, норм и правил – переход к городскому образу жизни заставил измениться. Причем, некоторые менялись сами по себе, а другие – путем настойчивых действий государства. Например, можно вспомнить, какая огромная работа была сделана для распространения элементарных гигиенических навыков – ведь в крестьянской жизни даже элементарному умыванию (не говоря уж о чистке зубов) не было места. (Что поделаешь: жизнь традиционного крестьянина всегда и везде – не только в России – состояла в тяжелом труде и серьезной нужде, где даже такая мелочь, как ежедневная гигиена, была невозможна.)
* * *
Впрочем, государству приходилось заниматься и более серьезными вещами – например, приучать вчерашних селян к пунктуальности и последовательности. На самом деле, кстати, задача была очень нетривиальная – необходимо было убедить людей, выросших среди «мира простых действий» (т.е., действий, результат которых можно легко увидеть после выполнения) в том, что необходимо строго следовать некоей формальной технологической последовательности.
Это было настолько непросто, что в свое время – в конце 1930 годов, когда началось очень активное создание новых предприятий, заполняемых бывшими селянами – пришлось даже задействовать репрессивный аппарат для подобного «убеждения». (Что совершенно не соответствовало советским принципам, однако в условиях надвигающейся войны было чуть ли не единственно возможным.) Разумеется, потом от данной практики отказались – поскольку создание хоть какого-то «ядра» трудовых коллективов (т.е., группы рабочих, «понимающих» индустриальные нормы) позволило отказаться от подобного метода. Однако в той или иной мере данная проблема сохранялась вплоть до самого конца существования СССР.
Сюда же стоит отнести и такой, крайне «любимый» антисоветчиками, факт, как массовый вынос работниками тех или иных материальных ценностей с предприятия. На самом деле, конечно, данный «вынос» выглядит просто смешным по сравнению с тем, что началось в постсоветское время. Поскольку единственный перевод на оффшорные счета «жалкого» миллиарда рублей кроет все советское воровство, как бык овцу! А ведь переводились и переводятся не миллиарды рублей, а десятки и сотни миллиардов долларов! Однако понятно, что подобными вещами сейчас занимаются только немногие «избранные». (Впрочем, какое-то время с начала рыночных реформ и до приватизации предприятий, кстати, существовало и крупное воровство в «классическом виде» - когда с заводов продукция просто «вывозилась в небытие». Тогда эта практика захватывала и «мелочь» -вроде начальников цехов и даже обычных охранников.) В случае же с советскими «несунами» акцент делается именно на массовости. Дескать, несмотря на то, что «несли помаленьку», делали это «все», а значит, советские люди – это воры по натуре.
Но как раз это не так. И в том смысле, что число «несунов» по отношению к общей численности работников предприятий не было особо большим – даже если считать таковыми тех, кто занимался данным делом нерегулярно. И в том, что подобный «вынос» часто вообще не нес никакого ущерба деятельности предприятий – скажем, на «местном» заводе было принято выносить бракованные магнитофонные платы и механизмы, собирая из них дома магнитофоны. (Весь брак шел там «под пресс» - т.е., уничтожался.) Ну, а самое главное – данное действие достаточно четко оделялось в сознании граждан от «воровства» в привычном понимании. Т.е., о покушении на собственность граждан или на крупную собственность государства. (Скажем, на готовую продукцию, оборудование или те же автомобили.) Поскольку для человека, не понимающего сложности производственных процессов, не умеющего работать с абстрактным категориями, сама мысль о том, что «можно взять ту фиговину, которая все равно никому не нужна» или «почему бы не отсыпать от этой кучи, она же все равно не уменьшится», являлась естественной. И ни с какой мыслью о «преступлении» или, даже, «нарушении» не связывалась.
* * *
И «лечиться» данная «болезнь» могла только одним путем – а именно, увеличением числа людей, которые могут понимать реальность на более высоком уровне, нежели «то, что перед глазами». Иначе говоря, охватом их индустриальным, модернистским мышлением. На самом деле, кстати, в указанном нет ничего сложного – нужно только время. До того же, как это произойдет, помочь могут только крайне жесткие репрессивные меры – которые существовали практически во всех развитых странах на подобном этапе урбанизации. В СССР, кстати, так же в свое время вводился их примерный аналог – знаменитый «закон об охране социалистической собственности», принятый в 1932 году, и довольно «жестко» выполнявшийся на начальном этапе. Однако уже к концу 1930 годов стало понятным, что «жесткость» не может искоренить описанное явление, приводя только к бессмысленной потере рабочей силы. Поэтому ее («жесткость») резко снизили, а после 1950 годов репрессивная практика в подобном случае практически прекратилась. (На самом деле, как уже говорилось выше, к этому времени сложились некие «ядра» рабочих коллективов. Которые могли блокировать значительную часть описанных проблем.)
Таким образом, можно сказать, что практически все советское время производство вынуждено было адаптироваться к особенностям новоприбывающих работников. На этом фоне множество «бытовых привычек», связанных с тем же сельским происхождением, выглядит невинной мелочью. Хотя в данную «мелочь» входило, например, такое знаковое для советской эпохи явление, как массовое употребление спиртных напитков. Точнее сказать, массовое употребление крепких спиртных напитков – а еще точнее, водки и «водкоподобных» веществ. Последнее, кстати, была очень серьезная проблема и для производства – в связи с ней приходилось всячески ограничивать применение этилового спирта в технологических целях. (В том смысле, что вместо применения этого крайне эффективного, дешевого и при этом – достаточно безопасного – растворителя, приходилось вводить разнообразные «спиртовые смеси» и прочие суррогаты. Иначе – выпьют!)
Однако наиболее ярко проявлялось это в быту – где пресловутое пьянство на несколько десятилетий стало одной из самых серьезных проблем. И это при том, что спиртное – само по себе – в Советской Союзе стоило очень дорого. (Скажем, знаменитые «3-62» в 1970 году составляли порядка 3% от средней зарплаты – т.е., на последнюю можно было купить 33 бутылки водки. Если привести к сегодняшним реалиям, то при зарплате в 45 тыс. рублей цена «беленькой» должна была бы составить… 1350 руб.) Да и вообще, с алкоголизмом в СССР практически все время боролись крайне решительно – начиная с развертывания массовой наглядной агитации, и заканчивая созданием специальной сети «Лечебно-трудовых профилакториев». Однако все это не мешало новоявленным горожанам тратить свои деньги, время и здоровье на приобретение указанного продукта питания. (А так же на приобретение более дешевых вина и пива.)
* * *
Антисоветчики любят объяснять подобное «советское пьянство» тем, что «людям тогда нечего было делать». Дескать, в советское время не было такого числа развлечений, нежели при капитализме – и поэтому народу приходилось «бухать». Правда, это не объясняет, почему наибольший пик потребления алкоголя в нашей стране пришелся на 1990 годы – когда как раз развлекательная индустрия расцвела в полный рост. Равно, как и не объясняет того, чем же занимались в советское время трезвенники – которых также хватало. (На самом деле занятий для них было множество. Начиная со спорта – на каждом предприятии в то время были свои спортивные команды по самым разным дисциплинам, от хоккея до шахмат. И заканчивая воспитанием детей – коих тогда было намного больше, нежели сейчас.) В действительности же указанное явление определялось другим – тем, что для человека, выросшего в селе, употребление спиртных выглядело одним из самых «естественных» способов «рекреации». В смысле – «отключения от проблем», которые существуют в любом обществе. (Другое дело, что в доиндустриальном селе заниматься этой самой «рекреацией» было почти всегда некогда – т.к., количество труда требовалось колоссальное, а денег на водку было мало. Поэтому пьянство там и не было слишком распространено.)
Поэтому «советский алкоголизм» был явлением проходящим – достигнув своего пика во второй половине 1960-начале 1970 годов –т.е., тогда, когда был пик переезда людей из села в город – он уже к концу 1970 годов начал снижаться. (Небольшое повышение было в связи с появлением «андроповки», но, судя по всему, он связан был с «выходом из тени», т.е., с переходом на «легальный алкоголь». Поскольку даже в это время косвенные признаки – скажем, смертность от алкогольного отравления – показывают снижение.) И лишь «переход к рынку» заставил пьянство «подняться на новый уровень» - но это, разумеется, уже совершенно иная история. (Тем не менее, даже это не смогло переломить общий тренд – в том смысле, что после смены поколения количество выпиваемого алкоголя все равно пошло на спад.)
Поэтому стоит понимать, что все неприглядные картины, связанные с существованием в Советском Союзе «бухариков», и их относительно массовым числом среди населения было явлением совершенно естественным – в том смысле, что не пройти подобный этап урбанизационного процесса было невозможным. (В Европе данный период приходится на вторую половину XIX столетия для наиболее «передовых» государств, вроде Великобритании или Франции, и на первую часть 1950-1960 годы для остальных. Последней, кстати, прошла через это Скандинавия – у нее «пик алкоголя» приходится на те же 1970 годы, при том, что начался он гораздо раньше, нежели у нас.) Кстати, помимо «рекреационного» алкоголизма в качестве примера проявления «сельских норм» в Советском Союзе стоит упомянуть еще алкоголизм «ритуальный». Связанный с необходимостью потреблять спиртное по самым различным поводам –начиная с праздничных торжество и заканчивая «обмытием» крупных покупок. Наверное, тут не надо говорить, что эта практика оказывается прямо связанной с принятыми в традиционном обществе нормами.
Кстати, указанное «традиционное пьянство» просуществовала до самого последнего времени – скажем, еще в 2000 годы было принято «проставляться в трудовых коллективах». Однако сейчас она постепенно сходит на нет – и, думаю, лет через десять «потребность» в подобном употреблении алкоголя станет только историческим фактом.
* * *
То есть, и в быту, и в производстве «урбанизационный фактор» - т.е., особенности бытия, связанные с быстрым переходом от традиционного сельского к индустриальному городскому способу существованию – имел крайне высокое значение для Советского Союза. И хотя у данного аспекта были и положительные стороны (например, высокий прирост населения), однако в «историческом плане» он может быть полностью отнесен к проблемам. Причем, к проблемам системным, и, по сути, не решаемым. Точнее – не решаемым «классическим образом», но о последнем пути надо говорить уже отдельно…

 Bigger — современные технологии для людей с ослабленным зрением
Bigger — современные технологии для людей с ослабленным зрением  Утренний чай
Утренний чай  Новасти зарубежья
Новасти зарубежья 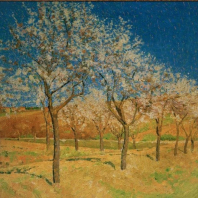 Замечательный Ложе
Замечательный Ложе  Динокрот?
Динокрот?  Дух общности, Юмор и Отвага: Что значит быть британцем - эссе принца Гарри
Дух общности, Юмор и Отвага: Что значит быть британцем - эссе принца Гарри  Что Сталин прятал в потайном кармане?
Что Сталин прятал в потайном кармане?  Стиль в фильме "Алиса в Стране чудес" (2025)
Стиль в фильме "Алиса в Стране чудес" (2025)  Юбилейная схема метро в Петербурге
Юбилейная схема метро в Петербурге 



