Картошка и социализм
 anlazz — 26.02.2020
Товарищ Коммари, кажется, заварил кашу своими воспоминаниями о том,
как он в период армейской
службы ездил «на картошку» . В том смысле, что - высказав
мнение о том, что подобное действо было не сказать, чтобы тяжелым и
унизительным (а точнее наоборот) - он вызвал целую волну возмущений
со стороны антисоветски настроенных личностей. Для коих данный факт
– т.е., «легкость» перенесения «картофельного ужаса» со сторону
указанного автора – показался буквальным образом личным
оскорблением.
anlazz — 26.02.2020
Товарищ Коммари, кажется, заварил кашу своими воспоминаниями о том,
как он в период армейской
службы ездил «на картошку» . В том смысле, что - высказав
мнение о том, что подобное действо было не сказать, чтобы тяжелым и
унизительным (а точнее наоборот) - он вызвал целую волну возмущений
со стороны антисоветски настроенных личностей. Для коих данный факт
– т.е., «легкость» перенесения «картофельного ужаса» со сторону
указанного автора – показался буквальным образом личным
оскорблением.В результате чего поднялась целая волна «картофельного» - а точнее, «антикартофельного возмущения», захлестнув не только Коммари, но и Майсуряна и даже Алекса Драгона . Которые попытались найти причину указанного возмущения - а так же решение для него. Однако, ИМХО, ни один из данных блогеров указанную задачу не решил - в том смысле, что, поставив правильный вопрос, не дал нужный ответ. Поэтому придется делать это тут. И, прежде всего, стоит указать, что данная проблема тут, по сути, «разделяется» на две. На, собственно, проблему с участием «инженерно-технических работников» в процессе условной уборки урожая. И на проблему крайне резкого восприятия ими данной особенности – которая проявляется даже по прошествии трех десятилетий после гибели СССР. Правда, что самое интересное, в конечном итоге они все равно «сливаются» в одну, причем совершенно неожиданную – но об этом будет сказано чуть ниже.
Пока же стоит отметить то, что отрицать указанное выше использование «советской интеллигенции» в рамках сельхозработ, разумеется, нельзя. Однако так же нельзя и отрицать совершенно очевидную причину этого, состоящую в том, что советское сельское хозяйство где-то с середины 1960 годов находилось на «голодном кадровом пайке». В том смысле, что растущая потребность в промышленных работниках приводила к активному оттоку людей из деревни в город. Причем, как-то затормозить данный процесс было невозможно: наращивание промышленного производства было неустранимой потребностью страны, находящейся в противоборстве с ведущими западными державами. Точнее сказать, была одна тонкость… но о ней так же будет сказано отдельно.
* * *
В подобном случае сохранение избыточной сельской рабочей силы было буквальным образом подобно смерти. (Поскольку без наличия современного вооружения – которое, в свою очередь, требует развитой промышленности – вероятность военного столкновения с Западом возрастала практически до единицы.) В указанном положении использование тех же школьников или студентов, да и младших научных сотрудников в качестве «подсобных рабочих» выглядело вполне допустимым решением. Тем более, что подобное использование было достаточно редким – не более пары недель в году.
Кстати, мало кто понимает, что как раз указанная «редкость использования», так же сама по себе, являлась проблемой не меньшей, нежели нехватка рабочих рук. В том смысле, что она означала невозможность использования постоянно нанятых людей – или, по крайней мере, колоссальную нерациональность подобной системы. Что же касается рабочих сезонных, «поденных» - то с ними в СССР была серьезная проблема, поскольку наличие данной категории трудящихся советским обществом не приветствовалось – а точнее, полностью отвергалось. Причин этому было много – скажем, очевидное стремление к антисоциальности у любых «бродячих», не имеющих основного места работы людей. (Неслучайно в СССР даже цыган старались сделать оседлыми – причем, к значительной мере, это удалось.)
Впрочем, только этой особенностью дело не ограничивалось. Поскольку важным были и другие особенности – например, то, что пресловутые «кочевники» в условиях советской экономической системы не могли быть заняты круглый год. (Как это возможно во многих странах, где сезонные рабочие просто перемещаются по стране, устраиваясь то на одно, то на другое место.) Поскольку – за исключением указанного сельхозпроизводства, с его четко установленной сезонностью (потребности во «внешнем труде» тут начинались где-то с августа и заканчивались октябрем) – мест для применения таких «перемещающихся рабочих рук» было немного. Причем, последний критерий был как бы не самый главный из того, что ограничивало формирование корпуса «сезонных рабочих». (Поэтому в СССР вполне могли существовать т.н. «шабашники» - личности, занимающиеся мелким малоквалифицированным строительным трудом с частой сменой мест, да еще и полулегальным образом. Но они имели, понятное дело, круглогодичную занятость.)
* * *
То есть – избежать указанной проблемы с «сезонным дефицитом» рабочей силы было невозможно. (Даже если бы удалось – каким-то таинственным способом – исключить изъятие рабочей силы из села, то это бы скорее привело к ухудшению общей ситуации. Поскольку тогда пришлось бы искать способы занятия данного населения в «межсезонье».) Впрочем, решения данной проблемы были. Причем, именно решения – в том плане, что можно было уменьшать трудовые затраты путем дальнейшего развития механизации сельскохозяйственного труда. Т.е., заменять пресловутые «копалки» - если речь вести об уборке картофеля – на картофелеуборочные комбайны. Но этот путь осложнялся тем, что, во-первых, комбайнов не хватало. (Копалки проще и делать их можно больше.) А, во-вторых, они были слишком дорогими для колхозов – которые не очень активно стремились к приобретению подобной техники. (Кроме того, они было гораздо сложнее – что требовало более квалифицированного обслуживания.)
То же самое можно сказать и про иные пути интенсификации сельхозпроизводства, которые, в любом случае, требовали серьезной модернизации указанной отрасли с полным перестроением ее на новые методы хозяйствования. Что, в свою очередь, требовало новых специалистов - коих, как уже говорилось, не было. В результате чего возникшая в конце 1960 годов практика временного привлечения «городских трудовых ресурсов» продолжалась вплоть до самого конца советского периода. Кстати – для скептиков – стоит сказать, что определенный сдвиг в данной сфере все же шел. В том смысле, что, например, обработку тех же зерновых культур удалось полностью «автономизировать». А ведь еще в начале 1970 годов существовала практика выезда тех же студентов не только «на картошку», но и «на зерно» - для работ на «сушилках-веялках» - однако уже к концу десятилетия все это стало выполняться автоматически, на элеваторах.
С овощами же в рамках привычных технологий сделать то же самое не удавалось. (Причем, для ряда культур не удается до сих пор – несмотря на все развитие автоматизации. Поэтому, например, те же помидоры или клубнику до сих пор убирают руками – со всеми вытекающими последствиями.) Ну, и разумеется, стоит понимать, что осознания важности «глубокой сельхозмодернизации» - т.е. не простого насыщения имеющихся хозяйств тракторами и комбайнами, а полной перестройки технологических процессов, с введением в широкий оборот методов генной инженерии, гидропоники и аквакультуры – не было не только у советского руководства. Не – что еще важнее – у самих советских людей. В том смысле, что уже к началу 1970 годов «деревня» мыслилась, как нечто не просто инертное, но относящееся к некоем “архаическому миру”. Для которого любое изменение есть не благо, а зло.
* * *
Да, именно так: уже в 1970 годы в советской литературе возобладали т.н. “деревенщики”, интеллигенция начала развешивать по стенам лапти и иконы, а наиболее “смелые” из этих самых “развешивальщиков” начала “припоминать, как в свое время Россия кормила пол Европы”. В то время, как “сейчас закупаем зерно за рубежом”. (При том, что в то время зарубежную закупку продовольствия в это время осуществляли все развитые страны - но данный факт, конечно же, проходил мимо советских интеллигентов.) В итоге уже в 1970 годы начала вызревать идея, состоящая в том, что никакие технические инновации сельскому хозяйству не нужны - поскольку достаточно дать “крестьянину свободу”, и он завалит страну продуктами даже с деревянной сохой. (Впоследствии это трансфомировалось, вообще, в “технофобию” по отношению к отрасли - в том смысле, что любые изменения в технологии тут стали трактоваться исключительно отрицательно - с восхвалением “естественности” прошлого.)
Хотя, разумеется, только селом дело тут не ограничилось: “миф о свободе хозяйствования” в указанный период (конец 1960-начало 1970 годов) начал доминировать практически везде - не случайно, “либермановская реформа”, состоящая как раз в развитии этой самой “свободы”, победила технократическую идею о создании ОГАС. Поэтому неудивительно, что никакой масштабной переориентации сельскохозяйственной системы с “трудозатратной” на “техникозатратную” так и не произошло. (Отдельные попытки, как уже говорилось, сделать это были -с теми же зерновыми проблему решили - однако они оказывались слишком локальными для требуемой задачи.) Поэтому чем дальше, тем сильнее можно было наблюдать нарастания и нехватки сельского населения. И возмущения населения городского в связи с его привлечением к сельхозработам.
Впрочем, только указанным моментом данная особенность не ограничивалась - поскольку уже указанная “трансформация” советского общества в общество урбанизированное происходила не только на данном уровне. Но об этом будет сказано уже в следующей части.
|
|
</> |

 Организация похорон: как выбрать надежное ритуальное агентство и обеспечить достойную церемонию прощания
Организация похорон: как выбрать надежное ритуальное агентство и обеспечить достойную церемонию прощания  Фильм ужасов по украински...По итогам "майдана"...
Фильм ужасов по украински...По итогам "майдана"...  44-ю мысль намело
44-ю мысль намело  И всё-таки, как хорошо дома...
И всё-таки, как хорошо дома...  Про салют
Про салют  Мнение. А судьи-то кто?..
Мнение. А судьи-то кто?..  Волшебный китайский чай с молоком и склизкими катышками
Волшебный китайский чай с молоком и склизкими катышками  Актуальное
Актуальное 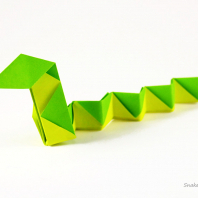 Ну вот и Змея приползла
Ну вот и Змея приползла 



