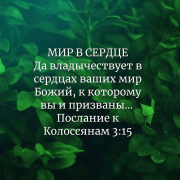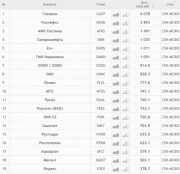Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбагатая (6/6)
 rus_turk — 17.01.2023
[Л. К. Полторацкая.] Поездка по китайской
границе от Алтая до Тарбагатая // Русский вестник. 1871.
№ 6.
rus_turk — 17.01.2023
[Л. К. Полторацкая.] Поездка по китайской
границе от Алтая до Тарбагатая // Русский вестник. 1871.
№ 6.Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6.

Город Семипалатинск. Фото Л. К. Полторацкой,
На другое утро нас рано подняли и велели собираться в путь. На
рассвете, полусотня казаков, под командой
Артиллерия шла шагом. Я прибавила ходу, и с двумя киргизами ушла вперед. Встретила волка, который очень мирно перебегал долину. Киргизы погнались за ним, но ушел. Пройдя двадцать пять верст, остановились в прехорошенькой долинке между высокими горами. Орудия стали на позицию, кругом расположился отряд. Сухарев сам повел трех казаков, чтобы поставить пикет, провел их до конца долины и вскарабкался на самую высокую вершину, которая оканчивалась чуть не остроконечно. Слезши с лошади, он провел казаков и поставил на самую верхушку. После того Сухарев стал спускаться; даже муж приговаривал, глядя на него: «Ой, дедка, хоть с лошади бы сошел! Сломишь себе шею!» Но дедка даром что сед, да удал. Он благополучно сошел и доложил начальству, что с вершины на далекое расстояние видны дороги. В ожидании обеда мы пошли гулять на горы. Взобравшись довольно высоко, сели отдохнуть и любоваться хорошеньким видом окрестных гор, долины и расположенного в ней лагеря.
У нас обедал начальник взвода, а дедка Сухарев постился (постовал, как говорят у нас) и отказался от обеда. После обеда долго сидели, читали газеты и рассуждали о войне Франции с Пруссией. Я от всей моей души желала и желаю, чтоб они изобразили битву тех двух знаменитых собак, которые до того грызлись, что только хвостики остались. От Власова все не было известий, и мы легли спать, не дождавшись ничего… Оказалась небольшая, но весьма чувствительная неприятность; вся юрта была усеяна маленькими черными пауками; они бегали по коврам, по кроватям, по бокам юрты, падали сверху ее, — не было от них спасенья. Но как все это ни было противно, а усталость взяла свое.
Утром в отряд наехало человек тридцать солонов, под предводительством солонских офицеров; у одного был белый шарик, значит, наш хорунжий, у другого белый матовый — капитан, а у третьего синий — это майор. Чиновник с синим шариком важничал непомерно; напротив того, человечек с прозрачным шариком и стариковскою, женоподобною физиономией был весьма мягок и любезен.
Приехавшие с ними солоны народ рослый, стройный и красивый; черты лица их правильны, глаза не подтянуты кверху и скулы не выдаются; ноги и руки замечательно малы и стройны. Обуты в башмаки с совершенно круглыми носками, заканчивающиеся острым шнипом, на толстой бумажной подошве; в широких, наподобие турецких, шароварах и курмах, то есть широких куртках или кофтах с очень широкими прямыми рукавами; все это из серой, точно небеленый холст, материи. Головы до половины выбриты, а с половины отпущены очень длинные волосы, заплетенные в косу; на головах поярковые шляпы с загнутыми вверх, вроде кокошника, полями, и в одном ухе большая, спускающаяся до плеча серьга. Оружие — лук и колчан, который они носят не на спине, а лук висит с одного бока, колчан с другого.
Чрез переводчика солонам было объявлено, что их задержат
ненадолго. Они потолковали, и по необходимости согласились.
Солонских чиновников пригласили пить чай. Синий и белый матовый
шарики вели себя чрезвычайно чванно и беспрестанно сосали свои
трубочки. Отобедали, а все от
Ж. проскакал 25 верст от селения Матена карьером, у него не было
почти голосу; но выпил рюмку хересу, сел на свежую лошадь и в
сопровождении двух казаков снова поскакал к
Тронулись и мы. Солонские чиновники важничали до невозможности, и гордо выехали пред отряд, стараясь держаться впереди русских начальников. Пришлось попросить их держаться сзади и не сметь выскакивать вперед. Они тотчас послушались, но франт с синим шариком сохранял надменный и иронический вид. Манчука и сына Матена вели в средине отряда на чумбурах.
Чрезвычайно красиво идет артиллерия по горам. Как лихо кони
выносят орудия в гору, как искусно спускают. Прислуга поддерживает
орудие на лямках, могучие дышловые, сдерживая катящееся с крутого
спуска орудие, совсем садятся на задние ноги и сползают, упираясь
передними ногами, вытянутыми как струнки. Иногда которая-нибудь
заблажит немножко, замотает головой, прося повода. Тут же ей
ездовой, в виде нравоученья, нагайкой по ушам, и снова умный конь
напрягает все мускулы — и спускает молодцом. Несмотря на то,
что два перевала были довольно высокие и крутые, и один еще по
косогору, орудия спустились отлично. После одной остановки, когда
скомандовали «Садись!», синий шарик тотчас же передразнил:
«Садись!», самодовольно и презрительно усмехаясь. Спустившись со
второго перевала, мы довольно скоро вышли из ущелья на долину
Кобука, перешли два серных ключа, дававших себе знать своим
запахом, и через час ходу подошли к селенью, раскинутому на
довольно большом пространстве; все домишки группировались около
большой кумирни. Всего мазанок можно было насчитать до 80. За
селеньем и около него, но далеко от нас, копошились люди.
Поехавший солонский офицер с женоподобною физиономией, тоже стал
советовать ехать встречать. Матен потолковал с ламами, засуетился,
стал одеваться и просил
В-в объяснял, что китайский этикет требует, чтобы здоровались
сойдя с лошадей. Но наше начальство осталось на лошадях, говоря,
что пусть Матен подчиняется нашему этикету. Матен, видя, что наши
не сходят с лошадей, с лошади же подал руку, говоря приветствие.
Солонский старикашка переводил на китайский язык,
Матен, разумеется, очень радовался, что видит дорогого гостя, и
надеялся, что он прибыл здоров и благополучно. Ему ответили
сожалением, что русским пришлось идти так далеко ему навстречу.
Пригласили Матена идти с собой, говоря, что находят неприличным
вести переговоры на чужой земле. Матен согласился, и оба амбаня,
китайский и русский, направились со своими воинами обратно к
селенью. Дорогой Ж. сказал нам, что Б. входил в кумирню, и в ней
преинтересные бурханы (идолы). Спросив разрешение ехать вперед и до
прихода отряда осмотреть кумирню, мы взяли восемь человек казаков и
поскакали. Е., Ж. и я почти всю дорогу шли вскачь, местами
карьером, чтобы только засветло попасть в кумирню; при въезде в
селенье, я зазевалась на что-то, недоглядела широкого арыка
(канавы); лошадь, приготовляясь к прыжку, неожиданно, со всего
скоку, взвилась, я совсем было опрокинулась, и опять каким-то чудом
усидела. Помню, что ко мне подскакал казак, но он ли меня удержал и
мог ли удержать, не знаю, потому что в ту же секунду перемахнули
арык и благополучно продолжали скакать дальше. В окнах мазанок, в
селенье, огоньки, и копошится народ. Подскакав к кумирне, мы сошли
с лошадей и вошли совершенно будто на паперть наших старинных
церквей. Крыша паперти подперта деревянными четыреугольными
колоннами, пестро раскрашенными; три входные большие двустворчатые
двери. Мы подошли к средней, оказалась заперта, только в щелку
виден огонек; постучали, позвенели — никто не откликается;
наконец кто-то из казаков толкнул замок шашкой, дверь отворилась.
Мы столпились в дверях; общий вид напоминал католическую церковь;
большое здание, разделенное четырьмя рядами колонн, между средними
колоннами широкий проход к жертвенному столику, на нем теплится
лампада, свет ее и освещал кумирню. Мы хотели войти, но Ж.
посоветовал прежде осмотреться хорошенько — кто их знает! В
это время вышел из-за колонн какой-то таргаут и подошел к нам. Я
вручила ему серебряный двугривенный в руку и толкую: «Акча», то
есть по-киргизски деньги. Он оскалил с некоторою приятностью зубы и
спросил: «Бурхан?» Я ему жестами показывала, что не бурхану, а ему.
Он пригласил нас идти за ним. Из нашего конвоя два казака остались
у лошадей, двое у дверей, а остальные четыре вошли с нами. Мы прямо
пошли к жертвенному столику; дорогой заметили у каждой колонны
низенькие, вершка в два, широкие, четыреугольные скамьи; на них
сидят ламы во время богослужения. Между последними колоннами, за
жертвенным столиком висит шелковый занавес. Столик одет материей,
как наши престолы, на нем дюжины две одинаковых чашечек с какой-то
жидкостью, посредине их стоит высокая бронзовая или медная подножка
и в нее вставлен бубенчик главного ламы; пред ним теплилась
лампада, по бокам столика стояли вазы с какой-то пушистою зеленью.
Проводник наш скрылся за занавес, а я воспользуюсь этой паузой,
чтоб описать богослужение, которое прежде видел в этой самой
кумирне один офицер. Во время богослужения ламы садятся около
колонн на коврах, кошмах или скамьях, играют на инструментах, поют
или читают. Инструменты у них: огромная длинная труба, такая, что
надо поддерживать подставкой, медные тарелки, бубны, барабан
Жаль было уйти не осмотрев всего, но делать нечего, торопили так, что я только успела заметить сидящего великана с маленьким бурханишкой на руке. Слева от угла до среднего шкафа с главным бурханом, вся стена сверху донизу набита тючками.
Вышли мы из кумирни и стали садиться на лошадей. Лам очень занимало мое дамское седло с тремя рожками — и хоть на этот раз я была в бешмете и чембарах и сидела по-мужски, но чтоб удовлетворить их любопытству, села боком. Должно быть, это им показалось очень занимательно, потому что они осматривали седло и жарко что-то толковали между собою. Старик взял в руки и мою высокую прюнелевую ботинку и очень внимательно рассматривал.
Мы раскланялись с ними и отправились. Отряд действительно вышел
уже из селения. По берегу речки шла какая-то кутерьма; в полутьме
нам видно только было, что верховые таргауты снуют туда и сюда, как
рой потревоженных пчел. Ж. и Е. сказали, что мешкать нам нечего; я
взяла сына на чумбур, чтобы не сбился, щелкнули по лошадям и
проскакали между этою сумятицей к нашим. Оказалось, что в это
время, по приказанию начальства, остановившегося для отдыха и
первых переговоров с Матеном, отгоняли за нашу цепь всех
вооруженных. Войдя в юрту, мы увидели при свете свечи, вставленной
в воткнутый в землю штык, Матена, сидящего на ковре рядом с
генералом. С одной стороны наши офицеры А. и Б., с другой —
солонские; посредине юрты, поджав ноги, сидел переводчик. Мы сели с
нашими, и я с любопытством рассматривала Матена. Полное, жирное,
одутловатое лицо, с широкими скулами и острым подбородком; больше
карие глаза, длинный, острый, прямой нос, свесившийся над губой,
рот грошиком и никаких признаков бороды. Руки белые, как у
какого-нибудь модного проповедника. Разговаривая, Матен сидел
совершенно неподвижно, только быстро обводил своими большими, не то
испуганными, не то удивленными глазами всех нас, и снова уставлял
их на генерала, особенно когда он говорил что-нибудь; в руках он
вертел какую-то травку и нервно подергивал и щипал ее. Настоящие
переговоры шли о том, чтобы Матен непременно ехал на русскую землю,
как ему и приказано было Хебе-амбанем, так как неприлично для
русского генерала приходить переговариваться к нему. Матен упирался
и не хотел ехать, говоря, что он болен, и теперь даже принимает
лекарство, и что единственно болезнь помешала ему приехать на
Зайсан. Особенно говорил солонский чиновник с синим шариком, так
важничавший и ломавшийся с самого отправления нашего к Матену. Он
так и тарантил, что Матен не может ехать, что не все ли
равно — и здесь можно говорить
Велели ему передать, что сына его отпустили, а что он через
четверть часа пойдет с нами. Матен благодарил за сына, но уверял,
что у него теплого платья нет, а теперь холодно. Предложили ему
послать за платьем одного из оставленных при нем таргаутов. Он
опять за то же: болен и принимает лекарство. Переводчик и солонский
чиновник со старушечьею физиономией убеждали его и заверяли, что
ему никакого зла не сделают, что он гостем будет. Он отвечал, что
просит русского генерала остаться здесь ночевать, что завтра
приведут отбарантованных лошадей, и чтобы русские ничего не
боялись. Ему ответили, чтобы на наш счет он успокоился, что русские
знают, что в данном случае все его селенье подымут на копье, чтоб
он не ломался и ехал; а что если дело из-за теплого платья, ему
дадут шубу. С этим словом было приказано готовиться к отъезду, и мы
вышли из юрты. Совсем стемнело, холодный ветер так и рвал. Пока мы
путались и садились на лошадей около дверей юрты, вышел из юрты
Матен, окруженный переводчиками, солонскими чиновниками и Батобаем;
его уговаривают сесть на лошадь, он упирается, наконец сел на землю
как заупрямившийся ребенок. Сидит на земле в своей генеральской
шапке, но уже без прежней генеральской важности, а окружающие
продолжают его уговаривать. Костя так и умирает со смеху. Наконец
послышалась команда: «Садись!» Тогда даже долготерпеливый
переводчик
У меня одна была забота, Костя; даже и в темноте его, одного маленького, из всего отряда, и притом на белой лошади, легко было отличить, и какому-нибудь таргауту могло придти в голову сарканить его и утащить в горы взамен Матена.
Возьму его за чумбур, мальчик пищит и обижается, а один —
то в сторону отобьется, то отстанет: от усталости и холода совсем
раскис. Наконец буран разогнал тучи, и луна осветила нашу дорогу.
Матен прихотничал как женщина; то позови ему Батабая, и чтобы
Батабай ехал рядом с ним; пошлют ему Батабая — нельзя ли
остановиться у ручья налиться воды
У таргаутов, приехавших с Матеном, тоже отобрали оружие, и весь этот арсенал положили в нашу юрту. Вооружение таргаутов, как говорили знатоки, отличное.
На другое утро начались переговоры. Матену говорили, что он делает дурно, позволяя своим грабить русских. Тот сначала упорно отрицал и уверял, что грабят наших кызаи. Наконец он согласился на требование, что за всякий грабеж он будет отвечать, с оговоркой только, что кроме тех случаев, которые могут быть в соседних округах Увана и Аредена, и что немедленно приведут отбарантованных лошадей. Матен продолжал поститься, то есть из страху ничего не брал в рот и все перебирал свои четки.
Наконец привели лошадей; тогда Табак, Батабай и солонский чиновник — старушонка стали пред нашим начальством и начали слезное прошение, отпустить Матена, говоря, что он теперь уже на русской земле, лошадей отдал, обещал, что больше грабить не будет, и что если Матена по их просьбе отпустят, он их обижать не будет; а иначе, только отряд уйдет в Чеган-Обо, он станет им делать всевозможные притеснения, а кочевки их в соседстве. Посоветовались наши и решили отпустить Матена; но Манчука как уличенного в том, что принимал лично участие в грабеже против нас, взять с собой. Когда Матену объявили, что его не поведут дальше, он так обрадовался, так униженно кланялся и говорил такие рабские речи, что если б ему поставить условием получить сто нагаек пред отправлением, нет никакого сомнения, он принял бы это условие, не смущаясь нимало своей генеральской шапки. Приняли лошадей, простились с Матеном, то есть начальство сказало ему на прощанье — чтоб он помнил, что даром ему грабежи не пройдут, и выступили. Скверная погода, сильный холодный ветер и по временам дождь.
Через несколько времени нас нагнали человек 50 киргизов, вооруженных назиями и айбалтами. Айбалты теперь довольно известны, так как все бывшие в Туркестанской области вывозили их оттуда, а назия это длинное, тонкое древко, на конце которого вершков в пять железное острие; в том месте, где острие вделано в древко, большая кисть, сделанная затем, чтобы назия дальше в человека не входила, и, ударив, лезвие можно было выдернуть из раны. Ландверы эти выехали затем, чтобы помочь нам в случае, если бы переговоры с Матеном кончились не миролюбиво.
На возвратном пути, как и обыкновенно, казаки пели; есть у них и про бараньего героя песня. Вообще, в песнях своих казаки очень верно и метко выражают свои чувства. Например, есть у них одна, в которой они воспевают как они ходили на Балхом, переморили там своих лошадей, натерпелись всевозможных нужд, но это все бы ничего, главное им обидно, по словам песни, что служили они за это время:
Материалы о населенных пунктах Семипалатинской области:
https://rus-turk.livejournal.com/548880.html
|
|
</> |

 Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники
Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники  Oбщечеловеческий календарь-2026
Oбщечеловеческий календарь-2026  Рождественская благотворительная акция сообщества Traveller в Лондоне
Рождественская благотворительная акция сообщества Traveller в Лондоне  Какие пронзительные слова на могильном камне... в Хельсинки
Какие пронзительные слова на могильном камне... в Хельсинки  Будапешт. Ноябрь. Время ч/б
Будапешт. Ноябрь. Время ч/б  MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN (1994)
MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN (1994)  Почему английские слова похожи на русские | История индоевропейских языков
Почему английские слова похожи на русские | История индоевропейских языков  Если хотите связать свою судьбу с Россией, можете написать мне в личные
Если хотите связать свою судьбу с Россией, можете написать мне в личные  добраутра!
добраутра!