ПИСЬМА ОБ ЭВОЛЮЦИИ (119). Рахметов с точки зрения термодинамики :)
 maysuryan — 29.10.2025
Можно использовать ещё одно сравнение для понимания различия
«холодного» и «горячего». Касается это вовсе не только истории, а
любой эволюции, поэтому скажу в общем плане: всё новое, приходящее
в мир и только пробивающее себе дорогу, обладает максимальной
потенциальной энергией. По мере того, как место под солнцем
завоёвывается и мир от этого неизбежно меняется, эта энергия
неумолимо убывает. Зато столь же неуклонно растёт «энергия
теплового движения молекул»: происходит тот самый пресловутый
«нагрев». Вот почему то, что только что явилось в мир — «холодное»,
а потом оно неудержимо «нагревается» (то есть былое единство
сменяется острой внутренней конкуренцией).
maysuryan — 29.10.2025
Можно использовать ещё одно сравнение для понимания различия
«холодного» и «горячего». Касается это вовсе не только истории, а
любой эволюции, поэтому скажу в общем плане: всё новое, приходящее
в мир и только пробивающее себе дорогу, обладает максимальной
потенциальной энергией. По мере того, как место под солнцем
завоёвывается и мир от этого неизбежно меняется, эта энергия
неумолимо убывает. Зато столь же неуклонно растёт «энергия
теплового движения молекул»: происходит тот самый пресловутый
«нагрев». Вот почему то, что только что явилось в мир — «холодное»,
а потом оно неудержимо «нагревается» (то есть былое единство
сменяется острой внутренней конкуренцией).
Евгений Данилович-Горовых. Н.Г. Чернышевский пишет роман «Что делать?» в Алексеевском равелине Петропавловской крепости
29 октября — день памяти Николая Гавриловича Чернышевского (1828—1889), творчество которого я неоднократно вспоминал в рамках данной серии. Потому что именно он в литературной форме описал, какой должна быть идеальная — ну, или почти идеальная — «молекула» «холодной» социальной группы, изменяющей мир. И сделал это в форме образа Рахметова. Он назвал его «особенным человеком», а Ленин позднее — «профессиональным революционером». Переводя размышления и выводы Чернышевского в форму публицистики, Ильич воскликнул: «Дайте нам организацию профессиональных революционеров — и мы перевернём Россию!».
Разумеется, совсем не случайно работа Ленина и роман Чернышевского назывались одинаково — «Что делать?». Собственно говоря, и главное содержание их совпадает. :) Однажды, после слов Ленина о том, что роман Чернышевского «его всего глубоко перепахал», один из товарищей его наивно спросил:
— Значит, вы не случайно назвали в 1903 году [на самом деле в 1902-м. — А.М.] вашу книжку «Что делать?»?
Ленин с глухим раздражением ответил на это:
— Неужели о том нельзя догадаться?
За прошедшие более 140 лет с момента издания романа он оказал влияние на множество больших и малых людей, от Ильича до нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина, который признавался, что в юности подражал Рахметову, «главному герою романа».
Глава Коминтерна Георгий Димитров писал в 1935 году: «Роман «Что делать?» ещё 35 лет тому назад оказал на меня лично, как молодого рабочего, делавшего тогда первые шаги в революционном движении в Болгарии, необычайно глубокое, неотразимое влияние. И должен сказать — ни раньше, ни позже не было ни одного литературного произведения, которое так сильно повлияло бы на мое революционное воспитание, как роман Чернышевского. На протяжении месяцев я буквально жил с героями Чернышевского... Я ставил себе целью быть твёрдым, выдержанным, неустрашимым, самоотверженным, закалять в борьбе с трудностями и лишениями свою волю и характер, подчинять свою личную жизнь интересам великого дела рабочего класса, — одним словом, быть таким, каким представлялся мне этот безупречный герой Чернышевского».

Виктор Коваленко. Димитров на Лейпцигском процессе. 1985
Парадокс в том, что Рахметов — вовсе не главный герой романа, а персонаж эпизодический, которому посвящена всего одна глава в обширном произведении. Тем не менее по факту именно он оказывался главным, и для Димитрова, и для Си, и, надо полагать, не только для них одних.

Си Цзиньпин в молодости. Си Цзиньпин: «Когда-то я был весьма впечатлён романом Чернышевского «Что делать?», где главный герой ведёт жизнь аскета и даже спит на гвоздях для укрепления силы воли. Нас с друзьями это настолько поразило, что мы стали ночевать на кроватях без матрасов, гулять в дождь и снег и принимать ледяной душ для закалки духа»
В образе Рахметова автор создал умозрительный проект, чертёж образа «особенного человека», то есть «профессионального революционера». Таких людей до Рахметова не было или почти не было в России. Потом, пользуясь, так сказать, план-схемой Чернышевского, они появились... Но, например, Сергей Геннадьевич Нечаев, один из первых в этой когорте, оказался в Алексеевском равелине Петропавловской крепости на доброе десятилетие позднее самого Чернышевского.

Сергей Нечаев (1847—1882)
Понять историю 1917 года и СССР без Рахметова невозможно, и наоборот, этот образ даёт ключи к её достаточно глубокому пониманию. И как мы видим, это касается не только истории СССР, но и КНР, и Болгарии... да что там, всего мирового коммунизма.
Рахметов — именно та идеальная «холодная молекула», «особенный человек», множество которых формировало идеальный инструмент преобразования мира. Способный «перевернуть Россию», а то и весь мир. Такие люди, по Чернышевскому, вовсе не обязаны походить друг на друга, как близнецы, они могут различаться.
Чернышевский: «Таких людей, как Рахметов, мало: я встретил до сих пор только восемь образцов этой породы (в том числе двух женщин); они не имели сходства ни в чём, кроме одной черты. Между ними были люди мягкие и люди суровые, люди мрачные и люди весёлые, люди хлопотливые и люди флегматические, люди слезливые (один с суровым лицом, насмешливый до наглости; другой с деревянным лицом, молчаливый и равнодушный ко всему...), и люди, ни от чего не перестававшие быть спокойными. Сходства не было ни в чём, кроме одной черты, но она одна уже соединяла их в одну породу и отделяла от всех остальных людей».
Кстати, раз уж зашла речь про «тепловое» взаимодействие Рахметова и таких, как он, с окружающим миром, в который уже раз обращу внимание на одну на первый взгляд парадоксальную мысль, который автор вложил в его уста:
«Он сказал себе: «Я не пью ни капли вина. И не прикасаюсь к женщине». А натура была кипучая. «Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна?» — «Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, — мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности».
На первый взгляд, в цитате есть некоторая (или даже очень большая) несообразность: уж если вы за «полное наслаждение жизнью», так и начните с себя, наслаждайтесь жизнью от души и в полной мере! А коли вы за всяческое ограничение потребностей, то ограничивайте не только себя, а всех подряд! Да и в наше время на месте «преобразователей мира» мы обычно видим либо строгих классных дам, которые мечтают всех «заморозить» (ввести сухой закон, запретить курить и
Между тем в парадоксальном сочетании, высказанном устами Рахметова — ключ к успеху революции 1917 года, как и любой революции вообще. Никогда большевики не победили бы, если бы они, по худому примеру Керенского, эсеров (причём и правых, и левых) и т.д. призывали народ только к новым жертвам на фронте, бесконечному терпению и «самоограничению». С другой стороны, они тоже никогда не победили бы, если бы являли собой зрелище наслаждающихся «сладкой жизнью» эпикурейцев-гедонистов наподобие свергнутой ими буржуазно-дворянской элиты. Как ни странно, но именно в этом — ограничение своих собственных потребностей и поддержка вполне земных желаний большинства населения (то есть для 1917 года — мира любой ценой, передела помещичьей земли, ограничения рабочего времени и т.д.) — львиная доля их «секрета победы». И он, этот секрет, тоже входил в «план-схему» Чернышевского...
Кстати, революционеры-марксисты старого поколения — Плеханов, Засулич и другие — этого, похоже, совершенно не поняли. Или прочно позабыли к 1917 году — ведь и Плеханов, и Засулич высоко ценили «Что делать?». Но они были обескуражены и разочарованы «приземлённостью» народных желаний в 1917 году. Они искренне воображали, что «свободный народ» захочет самоограничения и жертв, как некогда они сами, а не всемерного расширения своих социальных и трудовых прав и свобод...
Ещё один интересный вопрос: а были ли у Рахметова... предшественники? Речь не о других образах революционеров в литературе (такие, конечно, были), а о персонажах, которые, как он, стали «план-схемами» для тех или иных восходящих классов? Как ни странно, не только были, но мы и неплохо знаем, как минимум, одного подобного персонажа, все или почти все читали это произведение. :) Вот только никто и никогда не соотносил его с Рахметовым... :)
P.S. И в заключение — немного личных наблюдений, совпавших с этим днём. Не далее, как сегодня (28 октября) проходил на улице мимо шкафчика для бесплатного распространения книг. Заглянул в него, как обычно делаю... вот что я там увидел.

Увы, это вовсе не свидетельствует о популярности «Что делать?». Скорее, наоборот, о том, что владельцу книжки она стала окончательно не нужна и, чтобы не бросать её в мусор, он отнёс её в этот шкафчик: берите, кто хочет! В советское время она требовалась в школе, поскольку «Что делать?» проходили на уроках литературы, ну, а теперь... Немножко меня поразило и то, что рядом стоял «Лунный камень» Уилки Коллинза. За этим детективом охотились в позднесоветское время, у моих родителей стояла на полке эта книга (правда, другое издание), вышедшее в рамках «макулатурной» серии (сам я её, впрочем, не читал). То есть, чтобы купить эту книжку в позднем СССР, требовалось сдать то ли 10, то ли 20 кг макулатуры. И вот она тоже оказалась никому не нужна... Как будто две завершившиеся эпохи стояли рядом: революционная, когда молодёжь зачитывалась «Что делать?» (в России эта эпоха была 140 и 100 лет назад, в Китае — она длилась ещё в 1960-е годы) и позднесоветская, когда, наоборот, гонялись за «безыдейной» «развлекухой». И обе — кончились. Что-то будет дальше?..
(Продолжение следует)
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ
|
|
</> |

 MoneyFest отзывы 2025: стоит ли доверять онлайн-школе
MoneyFest отзывы 2025: стоит ли доверять онлайн-школе  54
54 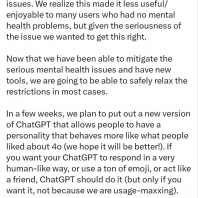 ChatGPT достиг временного пика. Нейронки в тупике и перестали быстро
ChatGPT достиг временного пика. Нейронки в тупике и перестали быстро
 Ну и как, догнали Америку?
Ну и как, догнали Америку?  Дима должен был приехать ко мне 10 октября
Дима должен был приехать ко мне 10 октября  Новости последнего часа - 00:00
Новости последнего часа - 00:00  Евгений Георгиевич Пепеляев (СССР)
Евгений Георгиевич Пепеляев (СССР)  Кролик
Кролик  Про блинные булочки и вскользь про Йоркшир и пудинг
Про блинные булочки и вскользь про Йоркшир и пудинг 



