На границах России складывается сверхгосударство
 swamp_lynx — 19.10.2024
"На границах России складывается сверхгосударство, - единственное в
современном мире уклоняющееся от вопроса, где пройдет его
окончательная граница.
swamp_lynx — 19.10.2024
"На границах России складывается сверхгосударство, - единственное в
современном мире уклоняющееся от вопроса, где пройдет его
окончательная граница.Его авангард - бюрократия, представитель которой - чиновник-моралист. Новый стиль европеизма соединяет дидактику с инквизицией, опять же наследуя худшие стороны позднесоветского стиля...
Нациям предлагают принять стандартизированный пакет ценностей заодно с инстанцией, которая вправе их контролировать. Стандарт в ценностях важней их состава, но важней всего - власть контролера! Контролирующая стандарты инстанция все чаще курсирует между Брюсселем и Вашингтоном. Ценности, устанавливаемые экспертным путем, затем продвигаются военной силой...
Возникнув 15 лет назад с паролем "суверенитет" на устах, Россия весьма чувствительна к попыткам установить в мире новый имперский стандарт." Глеб Павловский.

"В России недооценивают то обстоятельство, что две отечественные войны, 12-го и 41-го года, она вела именно с объединителями Европы. Насильники-унификаторы вторгались в Россию именем европейского единства. Еще Наполеон грезил, что его Кодекс станет конституцией для Европы, объединенной под знаменем, расшитым золотыми пчелами. И он не был последним.
Когда консерватор В.Жискар д'Эстен, в свое время распорядившийся, чтобы "Марсельезу" играли на такт медленнее, возглавил подготовку Конституции для Европы, в коридорах Брюсселя раздавались смешки. Но текст состоялся как текст, вот он перед вами: великолепный монтаж ценностей и отборных государственно-правовых производных! Источник власти на деле неясен, ее средоточия, мнимо публичные, практически недосягаемы. Сдержки и противовесы власти столь бесчисленны, что сами из себя образуют бесконтрольную власть. Там и тут по страницам разбросаны намеки на суверенитет, но у кого он? Президент Клаус, недоверчивый чешский буржуа, верно учуял в творении французского аристократа — советские реминисценции: власть облекает граждан со всех сторон, как униформа, сменить ее так же трудно, как заменить программную среду. У евробюрократии всегда наилучший software! Если это демократия, вопрошает Вацлав Клаус, — где демос?! Фикция суверенитета, имитирующая волю несуществующей нации евро, за фасадом скрывает кипучую жизнь бюрократической аппаратуры — все заставляет вспоминать первую конституцию СССР (1922 года). И та же непреклонная воля вытеснять, вместе с правом вето, право нации сказать "нет".
Упразднение силы вето превращает брюссельскую бюрократию в унифицирующую анонимную власть, невольно склоняющую правительства к заранее подготовленному решению. Так вот и сам Жискар д'Эстен, строчка за строчкой, навязывал членам Конвента свои формулировки в качестве "компромиссных" — европейское боевое искусство, перед мощью которого склонялся не один МИД России.
И что остается еврогражданину? Унифицированная евромасса, назначение которой — проголосовав, отослать суверенность по адресу "Брюссель, до востребования"? Свободная нация — это нюансы и цвета, увещевал великий грузин Константинэ Гамсахурдиа Владимира Ленина в своем известном письме. Вы говорите: коммунизм не имеет границ. Вот и Наполеон говорил: Европа будет иметь границы там, где восходит и заходит солнце...
История играет важную роль в нашем понимании суверенитета. Россия определяет себя как европейское государство, одновременно являющееся цивилизацией — носителем своей версии абсолютных ценностей. Центральным событием формирования этой концепции признается сегодня Отечественная война — как акт выбора антифашистской и освободительной, следовательно — европейской идентичности в борьбе насмерть с противоположной концепцией Европы — тоталитарной унификацией.
Разделенная расколом 1914 года, Европа не воссоединится путем унификации, да и Россия не даст унифицировать свою часть Европы. Договор, учреждающий конституцию для Европы, — это вызов, ясное притязание на суверенитет над всеми странами европейской цивилизации, входящими либо не входящими в ЕС.
Для невходящих же он означает установление новой границы. Уже ясно, что Брюссель выбрал для себя границей Россию, "конституционно отлучаемую" от европейскости. Русский европеец не увидит неразделенной Европы. Тем важней для нас научиться читать проектную документацию Европы без России.
Президент Клаус вовсе не друг России, но он европеец, а не европеист. Европейцу свойственно задавать вопросы. Вопрос Клауса о том, что за нация собственно учреждает Европу и собирается далее в ней править, исподволь расширяя границы компетенции по умолчанию, как предусмотрено новой Конституцией, — страшно напоминает полемику в Союзе 20-х годов прошлого века: допустят ли трудящихся к управлению в "отечестве всех трудящихся"? Быстро выяснилось, что нет, и те московские дебаты были закрыты.
Вот для чего стоит изучить детально расписанный проект "Европы минус Россия". Пока есть время — учи матчасть."
 pechkin: В
каждом путешествии по Европе снова я прихожу к выводу, что для того, чтобы наслаждаться
прогрессом, равноправием, защитой меньшинств, законопослушностью
граждан и подконтрольностью властей, всем этим великолепным
благоволением во человецех, всего только и нужно, что сколько-то
лет назад найти в себе силы повернуться лицом к Другому, тому, кто
не такой, как ты, собраться с духом и решительно уничтожить его раз
и навсегда, изнасиловать и убить его женщин, продать в рабство
детей, сжечь его деревни и поля, лишить средств к существованию,
выгнать из страны в одном халате, всех оставшихся сжечь на кострах,
разбомбить их города и расстрелять с самолётов колонны беженцев.
Через некоторое время природа очистится, и на страну, которая
сделала так, снизойдёт благополучие, покой и моральное право
осуждать и наказывать тех, кто ещё не дошел до этой стадии
развития.
pechkin: В
каждом путешествии по Европе снова я прихожу к выводу, что для того, чтобы наслаждаться
прогрессом, равноправием, защитой меньшинств, законопослушностью
граждан и подконтрольностью властей, всем этим великолепным
благоволением во человецех, всего только и нужно, что сколько-то
лет назад найти в себе силы повернуться лицом к Другому, тому, кто
не такой, как ты, собраться с духом и решительно уничтожить его раз
и навсегда, изнасиловать и убить его женщин, продать в рабство
детей, сжечь его деревни и поля, лишить средств к существованию,
выгнать из страны в одном халате, всех оставшихся сжечь на кострах,
разбомбить их города и расстрелять с самолётов колонны беженцев.
Через некоторое время природа очистится, и на страну, которая
сделала так, снизойдёт благополучие, покой и моральное право
осуждать и наказывать тех, кто ещё не дошел до этой стадии
развития.Похоже, что только так можно достичь счастья для всех. Ну, для всех наших, по крайней мере. Никто не уйдет обиженным, если те, кто обиделся, уже никуда не будут нигде ходить.
В Нью-Йорке мы задумались, почему все улыбаются, и ответили себе, что те, кто плохо, редко или невпопад улыбался, не оставили достаточно потомства. В Вандее жена спросила, как французы не боятся выключать на ночь свет на улице и не запирают двери. А просто всех, кого надо было бояться, они убили ещё триста лет назад. Теперь некого.
Какая грустная эволюция моих взглядов. Тридцать лет назад я искал секрет счастья для всех. А нашел только вот этот секрет. Как это грустно.
 svet_ka:
Генетическая изменчивость - залог выживаемости вида. Клонирование
или "почкование" эффективно только тогда, когда условия неизменны.
Когда же условия меняются в неблагоприятную сторону, все
"одинаковые" вымирают. Так что каждое поколение любого вида играет
в генетическую рулетку. Плюс, рулетка "начальных условий", не
только семейных, но и географических.
svet_ka:
Генетическая изменчивость - залог выживаемости вида. Клонирование
или "почкование" эффективно только тогда, когда условия неизменны.
Когда же условия меняются в неблагоприятную сторону, все
"одинаковые" вымирают. Так что каждое поколение любого вида играет
в генетическую рулетку. Плюс, рулетка "начальных условий", не
только семейных, но и географических.Дэвид Гребер. ...Защитники капитализма обычно приводят три обширных исторических аргумента: во-первых, он стимулировал быстрое научно-технологическое развитие; во-вторых,хотя он и наделяет огромным богатством узкое меньшинство, он одновременно увеличивает общее благосостояние каждого; в-третьих, тем самым он создает более безопасный и демократический мир. Вполне очевидно, что в XXI веке капитализм ничего из этого не делает. Даже его сторонники все чаще отказываются от утверждений о том, что это очень хорошая концепция, и все больше напирают на то, что это единственная возможная система или, по крайней мере, единственная возможная система для такого технологически сложно устроенного общество, как наше.
Информационные технологии сделали возможной финансиализацию капитала, которая еще сильнее вогнала рабочих в долги и в то же время позволила работодателям создать новые «гибкие» трудовые режимы, уничтожившие традиционные гарантии занятости и вызвавшие значительное увеличение рабочего дня почти для всех сегментов населения. Помимо перенесения за рубеж традиционных рабочих мест на заводах, она разгромила профсоюзное движение и тем самым уничтожила всякую возможность эффективной политики рабочего класса. Тем временем, несмотря на беспрецедентные вложения в исследования в области медицины и биологии, мы все еще продолжаем ждать лекарств от рака и даже от обыкновенной простуды, а самыми значимыми прорывами в сфере медицины стали средства вроде прозака, золофта или риталина —уникальные, можно сказать, способы добиться того, чтобы эти новые профессиональные требования окончательно не свели нас с ума.
...Американцы не любят считать себя нацией бюрократов — совсем наоборот, — но, как только мы перестаем рассматривать бюрократию как феномен, ограниченный лишь правительственными учреждениями, становится очевидно, что именно такой нацией мы и стали. Окончательная победа над Советским Союзом на самом деле не привела к господству «рынка». Скорее она лишь закрепила верховенство консервативных по сути своей управленческих элит— корпоративных бюрократов, которые используют краткосрочное мышление, зацикленное на прагматизме и конкуренции, для того чтобы уничтожать все, что может иметь революционные последствия любого рода.
Вследствие все большего взаимопроникновения правительства, университетов и частных компаний все они переняли язык, восприятие и организационные формы, зародившиеся в корпоративном мире. Хотя это и могло до определенной степени способствовать ускорению создания товаров, востребованных рынком (а именно для этого и существует корпоративная бюрократия), в том, что касается стимулирования оригинальных исследований, результаты оказались катастрофическими.
Когда историки станут составлять эпитафию неолиберализму, они должны будут написать, что это была форма капитализма, которая систематически отдавала приоритет политическим императивам над экономическими. То есть, выбирая между образом действий, который приведет к тому, что капитализм начнет казаться единственно возможной экономической системой, и образом действий, который превратит капитализм в более устойчивую в долгосрочном плане экономическую систему, неолиберализм всегда склонялся к первому варианту. Действительно ли уничтожение гарантии занятости при увеличении рабочего дня создает более производительную рабочую силу (не говоря уже о ее творческом потенциале и преданности)? Есть все основания полагать, что происходит ровно противоположное. В чисто экономических терминах неолиберальные реформы трудового рынка почти неизбежно приводят к отрицательному результату—и снижение темпов экономического роста по всему миру в 1980-е и 1990-е годы лишь усиливает это впечатление. Тем не менее они оказались чрезвычайно эффективными в деле деполитизации труда. То же можно было бы сказать о бурном росте армий, полиции и частных охранных служб. Они явно непроизводительны и лишь разбазаривают ресурсы. Вполне вероятно, что сам вес аппарата, созданного для обеспечения идеологической победы капитализма, его в конце концов и потопит. Но легко заметить, что если главным императивом властителей мира является устранение возможности представить неизбежное, спасительное будущее, которое будет в корне отличаться от сегодняшнего мира, то он должен быть ключевым элементом неолиберального проекта.
 karachee:
Всерьез обсуждать ситуацию США как мировой тренд — предлагаю называть бредовой индукцией. США —
страна победившей алхимии, которая создает стоимости из воздуха,
производя ценные бумаги, вся ценность которых заключается в
самогипнозе доброй половины человечества и военной слабости его
злой половины. Но поскольку ничто из ничего не берется,
производительный труд из США банально эмигрировал в Китай, где люди
работают на производстве сегодня больше часов, чем 50 лет назад,
хоть с учетом автоматизации, хоть без неё.
karachee:
Всерьез обсуждать ситуацию США как мировой тренд — предлагаю называть бредовой индукцией. США —
страна победившей алхимии, которая создает стоимости из воздуха,
производя ценные бумаги, вся ценность которых заключается в
самогипнозе доброй половины человечества и военной слабости его
злой половины. Но поскольку ничто из ничего не берется,
производительный труд из США банально эмигрировал в Китай, где люди
работают на производстве сегодня больше часов, чем 50 лет назад,
хоть с учетом автоматизации, хоть без неё....Компании США имеют преференции внутри США и всюду ещё, что и позволяет им этими преференциями приторговывать оптом и в розницу ничего не производя. Но это не есть общемировой тренд, это тренд общемирового паразита.
...Проблема богатства покупателя — во всем аналогично проблеме "нефтяной иглы". Если покупатель богат, он сразу формирует вокруг себя сектора экономики, которые пришли за его деньгами и предлагают ему то, без чего бы он с удовольствием обошелся, но от чего не в силах отказаться, поскольку уговаривают его высокооплачиваемые профессионалы уговоров. А покупатель страны США — все ещё самый богатый покупатель мира. Отсюда
количество «профессиональных работников, менеджеров, офисных служащих, продажников и занятых в сфере услуг» увеличилось втрое: «с одной четверти до трех четвертей общего числа занятых».
...Сборище людей, проводящих бóльшую часть своего времени, работая над задачами, которые им не нравятся и не особо удаются, это не Ад, это всего лишь результат наличия спроса и экономических процессов, оптимизированных алхимией и волшебством. Если отъехать от границы США на юг километров на 300, 500, 3000 — кукуха стремительно встает на место и идеи о безусловном базовом доходе благополучно растворяются в недрах объективной реальности.
 anti0h:
Сегодня с удивлением узнал, что Нобеля по экономике дали Аджемоглу,
Робинсону, и Джонсону. Про «Why nations fail» первых двух я писал
когда-то 5 лет назад. Сильной стороной я бы назвал множество
интересного материала, из которого далеко не всегда делаются
какие-то выводы. Например как большая часть ООНовской помощи
Афганистану уходила на оплату услуг самих ООНовских же экспертов и
организаций. Или как в ЮАР белые выдавили черных с рынка С/Х
проукции, получив себе и монопольное положение и толпу готовых
работать за копейки рабочих. Но видят ли авторы совершенно
идентичные процессы на межгосударственном уровне? Конечно же нет —
главное же институты!;)
anti0h:
Сегодня с удивлением узнал, что Нобеля по экономике дали Аджемоглу,
Робинсону, и Джонсону. Про «Why nations fail» первых двух я писал
когда-то 5 лет назад. Сильной стороной я бы назвал множество
интересного материала, из которого далеко не всегда делаются
какие-то выводы. Например как большая часть ООНовской помощи
Афганистану уходила на оплату услуг самих ООНовских же экспертов и
организаций. Или как в ЮАР белые выдавили черных с рынка С/Х
проукции, получив себе и монопольное положение и толпу готовых
работать за копейки рабочих. Но видят ли авторы совершенно
идентичные процессы на межгосударственном уровне? Конечно же нет —
главное же институты!;) az118:
Торговля - необходимый аспект жизнедеятельности крупных социальных
организмов - государств наряду с другими его жизненными аспектами,
статус которых в норме выше статуса торговли и ремесла - это
земледелие, священство и военно-административное дело, которых
торговля и ремесло снабжают всем необходимым. Потому все
государства мира всегда заботились о торговле как все нормальные
люди заботятся о здоровом теле, но из этого не следует что тело и
есть цель жизни и знак избранности.
az118:
Торговля - необходимый аспект жизнедеятельности крупных социальных
организмов - государств наряду с другими его жизненными аспектами,
статус которых в норме выше статуса торговли и ремесла - это
земледелие, священство и военно-административное дело, которых
торговля и ремесло снабжают всем необходимым. Потому все
государства мира всегда заботились о торговле как все нормальные
люди заботятся о здоровом теле, но из этого не следует что тело и
есть цель жизни и знак избранности.Однако в неблагоприятных условиях торговля и ремесло приобретают особую значимость, как то было в Финикии, Афинах, Хазарии. В Европе с 11-12 вв появляются торговые города-республики, живущие только торговлей и управляемые торговцами - Венеция, Генуя, Флоренция, Новгород на Руси, Ганза (формально в составе Св.Римской империи). Они уже ведут торговые войны за рынки. Но в целом христианская цивилизация пока еще не торговая.
Все изменил 14 век, уничтоживший основу средневекового общества Европы и породивший новую, торгово-ремесленную ментальность в широких слоях европейского общества - успех в земных делах стал знаком божественного благоволения и избранности в земной жизни, что нашло выражение в Реформации и протестантизме, а также в колониализме, после чего сначала Голландия, затем Англия и в 19 веке вся Европа становятся торгово-промышленными, национальными буржуазными государствами, ведущими торговые войны - войны за рынки и контроль за торговыми путями.
Войны за возможность торговли для своих купцов и войны за рынки и контроль за торговыми путями - разные типы войн.
 trita: Самый
эффективный метод познания и развития для человека это
деятельность, она вовлекает познающего сразу и в материи, и в силы
и в энергии, результаты же зависят в основном от мотивации и
степени соответствия намерений возможностям. Иллюзорная мотивация
ведёт к разочарованиям, греховная — к страданиям, правильная — к
посвящениям, малым и большим.
trita: Самый
эффективный метод познания и развития для человека это
деятельность, она вовлекает познающего сразу и в материи, и в силы
и в энергии, результаты же зависят в основном от мотивации и
степени соответствия намерений возможностям. Иллюзорная мотивация
ведёт к разочарованиям, греховная — к страданиям, правильная — к
посвящениям, малым и большим.В нынешнем телекоммуникационном мире, где с большим трудом различают познание и информированность, под давлением среды широко практикуемым становится метод получения «инфы» от «авторитетного источника», метод крайне неэффективный с точки зрения развития, он эффективен только в рамках закона экономии (главного закона материализма), через информацию можно получить инструкцию, если вы в состоянии её выполнить (иначе вы её просто не поймёте). Инструкция укажет вам, как пройти в библиотеку оптимальным (экономным) маршрутом в материи, учитывая, что ходить в этой материи вы уже умеете, миллионы лет эволюции вас снабдили и вам эту компетенцию развивать не нужно, но во всём остальном, в чём вы ещё не компетентны, информирование вам практически ни чем не поможет, хотя бы потому, что в (негативную) силу отсутствия компетенции вы не можете отличить «пророка» от «лжепропрока», а это значит, что, скорее всего, вы попадёте в ловушку популярности как ложного критерия авторитетности, и будете получать информацию с консервантами и прочим ментальным ГМО: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их».
Ситуация подмены познания информированностью в последние пару лет значительно модернизировалась и оптимизировалась (всё тот же закон экономии). Через ИИ люди стали обращаться за «знанием» по сути к среднестатистическому мнению по больнице общечеловеческого невежества. Сами посудите, красочное полуобморочное состояние цивилизации вроде бы прямо намекает, что люди не знают жизнь и не умеют жить, а способность нахваливать себя и самим себе набивать цену никак не изменяет негативного результата, как пластические операции на физиономиях стариков никак их не омолаживают, лишь превращают в гримасу. Но, несмотря на недвусмысленные намёки из новостей о недоброкачественности продукта, граждане активно будут «познавать» эту усреднённую «инфу», нейронный фастфуд. Посмотрим, во что это превратиться, может в аллергию на информацию.
 civil_engineer: В мире сформирована
культура отсутствия стыда, в которой лицемерие - не что иное, как
гибкость ума и находчивость.
civil_engineer: В мире сформирована
культура отсутствия стыда, в которой лицемерие - не что иное, как
гибкость ума и находчивость. propatriamori:
Модная идея о всеобщем обязательном деторождении парадоксальным
образом кажется как бы отражением в каком-то особенном зеркале
популярной идеи прав человека. В самом деле, далека ли мысль о том,
что у человека существуют права, которые присущи ему от рождения
как атрибутивные свойства, от идеи о таких же атрибутивных
свойствах-обязанностях, которые он должен нести только потому, что
родился представителем человеческого рода? Общеизвестно, что
желательные присущие людям свойства провозглашает и назначает людям
суверен (в республиках это "народ", "общество"), делая это через
систему подчиненных ему институтов, но это гражданские добродетели,
а не свойства, присущие человеку как венцу природы, так сказать.
Качества, связанные с телесной природой организма человека (число
потомков, число зубов, etc.), гражданскими добродетелями не
являются, а потому сувереном, который и сам есть только гражданское
сообщество, плод договора, и больше ничего, регулироваться не
могут. Понятно, что суверен может быть такой, что невозможность
"прав человека" его опечалит куда меньше, чем невозможность
"обязанностей человека" (как биологической, зоологической особи),
тем не менее, дело в обоих случаях обстоит одинаково: не бывает ни
тех, ни других, и взяться им неоткуда.
propatriamori:
Модная идея о всеобщем обязательном деторождении парадоксальным
образом кажется как бы отражением в каком-то особенном зеркале
популярной идеи прав человека. В самом деле, далека ли мысль о том,
что у человека существуют права, которые присущи ему от рождения
как атрибутивные свойства, от идеи о таких же атрибутивных
свойствах-обязанностях, которые он должен нести только потому, что
родился представителем человеческого рода? Общеизвестно, что
желательные присущие людям свойства провозглашает и назначает людям
суверен (в республиках это "народ", "общество"), делая это через
систему подчиненных ему институтов, но это гражданские добродетели,
а не свойства, присущие человеку как венцу природы, так сказать.
Качества, связанные с телесной природой организма человека (число
потомков, число зубов, etc.), гражданскими добродетелями не
являются, а потому сувереном, который и сам есть только гражданское
сообщество, плод договора, и больше ничего, регулироваться не
могут. Понятно, что суверен может быть такой, что невозможность
"прав человека" его опечалит куда меньше, чем невозможность
"обязанностей человека" (как биологической, зоологической особи),
тем не менее, дело в обоих случаях обстоит одинаково: не бывает ни
тех, ни других, и взяться им неоткуда.
|
|
</> |

 Как согласовать перепланировку помещений в 2025: понятным языком
Как согласовать перепланировку помещений в 2025: понятным языком  "Это какое-то техническое божество родом из XIX века!": Американец оценил
"Это какое-то техническое божество родом из XIX века!": Американец оценил  Жизнь заставила
Жизнь заставила  Песчаные дюны Якутии
Песчаные дюны Якутии 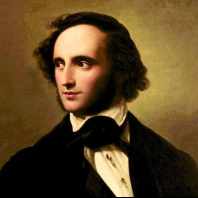 Насколько один из супругов может быть моложе/старше другого?
Насколько один из супругов может быть моложе/старше другого?  Сегодня — "Матвеев день". C праздником!
Сегодня — "Матвеев день". C праздником!  Батик Романа Захарова. Выставка "Шёлковый ветер". Часть I.
Батик Романа Захарова. Выставка "Шёлковый ветер". Часть I.  звизду в студию!!
звизду в студию!! 



