Дверь в Тверь - 17
 qebedo — 19.09.2023
Промеж татарина и москваина
qebedo — 19.09.2023
Промеж татарина и москваинаИван Михайлович, не желая помогать ни ордынцам, ни москвайцам, решил поступить как царь Шлёма, предложивший расчекрыжить спорного ребенка пополам. Он выехал навстречу амиру Идигу, но не с ратью, а с «небольшой дружиною», и доехал только до Клина, откуда, пошаройопившись там «мало-мало», вернулся во Тверь. Естественно, татарин-мунгалин (на самом деле — первый в мире ногаин, основатель Ногайской орды) такой «щирый жест» не оценил: «взяша волость Клиньскую и множьство людии посекоша, а иных в плен поведоша». Но поскольку взять не удалось даже Москву (пожег «всего лишь» Серпухов, Верею, Дмитров, Городец, Клин, Нижний Новгород и Коломну), до Твери дело так и не дошло. В Орде начались политические неурядицы, и пришлось срочно убегать в Сарай — «порешать за дела».

Монета Городецкого княжества времен правления Ивана Михайловича
Таким образом, тверской князь проявил чистоплюйство, щепетильность и принципиальность — не восхотел с помощью мунгал-татар нагибать соперников, продолжая «патриотическую» линию Михаила I Ярославича, Дмитрия Грозные Очи и Александра I Михайловича. Москвайцы Юрий и Иван Даниловичи (и все другие, но эти особенно) смотрели бы на такое поведение как на «детский сад, штаны на лямках» — сколько татаринов надо нагнать на врага, столько и надо нагнать, а все эти «страдания общеруЗке людей» есть ерунда, а не «реальный политИк»… Ну, вот такими принципиальными путями шли в своем развитии Тверь и Москва, и потому, собственно говоря, точки, в которые они пришли, были разные. Хотя в ближайшей перспективе Иван Михайлович свои профиты поимел — сохранение мира с москвайскими и усмирение оппозиции, ибо в сентябре (или октябре) 1410 года в Тверь вернулся беглый князь Иван Борисович Кашинский, а 10 октября — Юрий Всеволодович Холмский.
В 1411 году Александр Иванович, наследник Ивана, съездил «на каникулы» в Киев, где виделся с Витовтом. В то же самое время город посещали прочие «неофициальные лица» — король Польши Владислав II Ягеллон (он же Ягайла Ольгердович) и ордынский «царевич» Джелал ад-Дин, сын Тохтамыша. Встречались ли все эти люди «друг промеж друга» и о чем договаривались — тайна сия велика есмь. Но зимой 1411/1412 года Джелал ад-Дин внезапно захватил власть в Орде и тут же вызвал к себе князей тверского Ивана, москвайского Василия и ярославского Ивана Васильевича, причем последние явились «со множьством богатства и со всеми своими велможами». Видимо, из-за «множьства богатства» Василий вернулся в Москву раньше и 24 декабря 1412 года вместе с татарами и Василием Михайловичем Кашинским III напал на Кашин. Но Иван Борисович Кашинский с тверским гарнизоном отбил нападение.

Князь Василий Дмитриевич Москвайский и его супруга Софья Витовтовна
9 апреля 1413 года в Тверь вернулся Иван Михайлович. А далее… последовали 12 лет мира, покоя и тишины. Василий Кашинский, судя по всему, сидел в Москве и имел мало возможностей мутить воду. Осенью 1419 года новугородцы приняли у себя удельного князя Андрея Дмитриевича Псевдо-Дорогобужского (см. предыдущие серии), но известий о противоречиях между Андреем и великим князем Тверским Иваном нет. Примерно двумя-тремя годами позже Иван приказал заключить в темницу некоего боярина из Торжка (новгородского, тащем-та, владения) и его сына. Это могло быть связано с коварными усилиями новугородцев сохранить добрые отношения с Ливонским орденом. В то же время Иван послал литовскому великому князю Витовту тверское войско на помощь против ливонцев.
Засим и всё — покамест 22 мая 1425 года в возрасте 68 лет Иван Михайлович умер. Поскольку старший сын Иван Иванович скончался еще при жизни отца, наследовал ему Александр II Иванович, в Кашин вернулся (возможно, еще при жизни Ивана) Василий Михайлович III. По «старому праву» Василий должен был стать следующим князем тверским, но, как было сказано в предыдущих сериях, утвердился «новый порядок» наследования от отца к сыну, по которому после смерти Михаила II Тверь досталась его сыну Ивану. Однако же на Руси об то время свирепствовала чума — Александр Иванович помре 25 октября 1425 года. Наследовал ему 25-летний сын Юрий Александрович, который… помре 26 ноября 1425 года. И вот тут с престолонаследием оказалось вельми непросто, ибо от Анонимы, дщери боярина (москвайского, к слову) Ивана Всеволожа, покойный имел двух сыновей, Ивана и Дмитрия, но они были еще очень малы. И потому Тверь оккупировал Борис Александрович, младший сын Александра Ивановича.

Печать князя Василия II Васильевича
Его претензии основывались на том, что в завещании Михаила II Александровича было написано про его сына Ивана и его внуков — а про правнуков не было! Довольно, конечно, толстыми и очень белыми нитками шитое утверждение, но оно отрезало детей Юрия Александровича — Ивану Юрьевичу дали в 1426 году в удел Зубцов, а о Дмитрии более никогда не упоминалось (видимо, он умер очень молодым). В позиции, конечно, был еще один большой изъян — князь Василий Михайлович Кашинский III получался «еще законнее» наследник (см. предыдущие серии), чем Борис, но, во-первых, он в 1399 году подписал «отступного», то есть дал юридическую клятву не претендовать на Тверь, а во-вторых, в том же 1426 году был взят под стражу, после чего исчез из летописей… А поскольку князь Иван Борисович Кашинский не упоминался после своего подвига 1412 года (видимо, умер), то Кашин как выморочный удел отошел обратно к Твери, на чем беспокойная история Кашинского княжества и завершилась.
С похожими проблемами столкнулись, кстати, и соседи — у Дмитрия Ивановича Московского братьев не было, и он передал власть сыну Василию I, но когда тот умер 27 февраля 1425 года, его младший брат Юрий Дмитриевич Звенигородский тут же оспорил права нового великого князя Василия II Васильевича. Потому что по завещанию Дмитрия Ивановича именно Юрий должен был наследовать старшему брату, а не сын. Начался долгий период междоусобных войн, охвативший вcю оставшуюся жизнь и карьеру Юрия Звенигородского, а потом и его сыновей — Дмитрия Шемяки, Василия Косого и Дмитрия Красного, оспаривавших престол у Василия Васильевича. Во многом, кстати, из-за этого москвайским было и не до соседей — Тверь снова получила свои «пять копеек мира», которые ловко разменяла на «многие лета».
|
|
</> |

 Современные комплексные IT решения для бизнеса: автоматизация и развитие
Современные комплексные IT решения для бизнеса: автоматизация и развитие  О событии дня в столице Грядёт переворот?
О событии дня в столице Грядёт переворот?  Достань мне яду, Яго...
Достань мне яду, Яго...  Эволюция броневиков, которая перешла дорогу легким танкам
Эволюция броневиков, которая перешла дорогу легким танкам  Почему Россия до сих пор не уничтожила Зеленского
Почему Россия до сих пор не уничтожила Зеленского  «Хватит развратных русских». Китайцы дали России шокирующий совет насчёт США
«Хватит развратных русских». Китайцы дали России шокирующий совет насчёт США 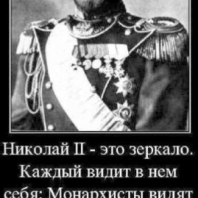 Царь Николай Второй
Царь Николай Второй  Еще раз о странностях "строительства" Исаакия.
Еще раз о странностях "строительства" Исаакия.  Oбщечеловеческий календарь-2026
Oбщечеловеческий календарь-2026 


