Бременская экспедиция в Семипалатинской области (1/3)
 rus_turk — 22.01.2023
Л. К. Полторацкая. Бременская экспедиция в
Семипалатинской области // Природа и охота. 1879.
№ 3.
rus_turk — 22.01.2023
Л. К. Полторацкая. Бременская экспедиция в
Семипалатинской области // Природа и охота. 1879.
№ 3.
Охотник с убитым архаром. Фото Л. К. Полторацкой,
16 апреля 1876 года прибыла в Семипалатинск экспедиция,
снаряженная Бременским полярным обществом для исследования Западной
Сибири. Она состояла из трех лиц: начальника экспедиции доктора
Отто Финша*, известного зоолога доктора Альфреда Брема** и графа
Вальдбург-Цейля***. Их сопровождали переводчик-латыш и московский
артельщик. Прибытие их в Семипалатинск произвело большой эффект.
Кроме того, что экспедиция была особенно рекомендована вниманию
местных властей и Русским Императорским географическим обществом,
Министерством внутренних дел и главным начальником края,
Г. А. Казнаковым «В Омск у нас было
рекомендательное письмо от редактора одной петербургской газеты к
полковнику Певцову». — rus_turk.], — никакого
языка, кроме своего, не знают. Мы их ругали
Свежо предание, а верится с трудом!
К несчастию, д. Брем читает по-русски, а граф
Вальдбург-Цейль учился русскому языку и по-русски не только читает
и пишет, но может, хоть плохо, даже объясняться. Больно было
слышать про этот по меньшей мере странный способ определения
образованности известных европейских ученых, и еще больнее, что
наши иностранные гости не могут сказать обидную поговорку «Grattez
le Russe vous trouverez le Tartare», не сделав
несправедливости татарам. Мы долгое время живем среди их и никогда
ничего подобного этому дикому факту не знали. Тем более прискорбно,
что авторы этих остроумных выходок — люди, претендующие на
университетское образование Семипалатинске три дня, занимаясь
приготовлениями к дальнейшему путешествию; обедали и вечера
проводили у нас. Хотя, собственно, главною целью экспедиции было
исследование Обской губы, низовьев Оби и возможности прямого
водяного или сухопутного пути с Оби в Карское море через
Байдарацкий полуостров, но экспедиция признала полезным начать свои
исследования, если возможно, с самых верховьев Обского бассейна и
кстати исследовать Тарбагатай, Алатау и степное озеро Алакуль,
представляющее уже резкое отличие от Обского бассейна, где
встречаются даже индейские виды амфибий. С Алакуля предполагалось
проехать долиной Емиля в Зайсанский пост, на Черный Иртыш, озеро Зайсан, на
Путь экспедиции в Сергиополь проходил через Аркад, группу невысоких гранитных гор, высотою до 1200 футов, где держится архар (Ovis argali), горный баран, животное совершенно неизвестное в Европе, — даже не во всех зоологических музеях есть его чучелы, с замечательными, доходящими до пуда весу рогами. Нашим гостям было предложено устроить на Аркаде охоту на этого зверя, на что они с удовольствием согласились.
20-го апреля, в 8 часов утра, члены экспедиции, вместе с мужем моим, выехали из Семипалатинска. Большое общество охотников, между которыми были и дамы, уехали днем ранее; с ними уже поехал И. Ф. Каменский, отправлявшийся через Кульджу в Китай с торговыми и научными целями. Переправившись на пароме через Иртыш, наши ученые гости в первый раз вступили в Киргизскую степь, и первое знакомство с нею произвело очевидно приятное впечатление. Был ясный солнечный день, и степь, обыкновенно малооживленная, в своем грандиозном просторе, теперь жила во всю ширь весны. Целая масса пернатых населяла ее. В каждой низине стояло озеро, на котором копошились и перелетали тучи пролетной птицы: в каждом кустарнике щебетали пташки; в воздухе звенели жаворонки, плавными кругами кружили сокола, высматривая добычу.
Иностранцы несколько раз выходили из экипажей стрелять птиц, представлявших для них новые или малоисследованные виды и роды. Переезд этого дня доставил значительную орнитологическую добычу: жаворонки четырех видов, в том числе черный (Alauda tartarica), турпаны, полевые рябки, полевые кулики и проч. Со всеми этими задержками, экспедиция приехала только к 11 часам ночи в Аркад, где в хорошенькой долине, недалеко от гор, расположился охотничий лагерь. Роскошно убранные коврами и тикиметями, юрты, кажется, удивили иностранцев, очевидно представлявших себе юрту чем-то весьма грязным и жалким.
Накануне киргиз-охотник убил великолепного
На следующий день, сборы, завтрак, препарирование снятой с
архара шкуры и убитых накануне птиц заняли немало времени, так что
сели на лошадей только к полудню. Человек двести
киргизов-загонщиков отделились, чтоб прогнать отдельную группу гор,
занимавшую
Выезд наш со стоянки представлял красивую оживленную
картину: человек
18-го мая, накануне нашего выезда в горы из станицы
Ульбинской Усть-Каменогорского уезда, мы в первый раз,
с тех пор как живем в этих местах, слышали подземный удар. Часов
Выехав 19-го мая из Ульбинска и доехав до Курчума в экипажах, мы сели на лошадей и пошли на вьюках. Переправа через Курчум была не особенно удобна: вода была так велика, что о броде нельзя было и думать; пришлось переправляться на киргизском пароме из двух долбленых челноков, связанных вместе, с помостом из нескольких досок; лошадей же перегнали вплавь. Переход был очень утомительный: мы дошли до ночевки, идя все время ходой и рысью, только к часу ночи; едва успели войти в юрты — хлынул дождь и разразилась гроза.
Но что значит и утомительный переход, и ночь в сырой от дождя юрте, когда со следующим утром очутишься в земном раю! Кто передаст прелесть раннего утра в этих равнинах! Солнце льет потоки мягкого ласкающего света, чуть где тронув золотыми блестками еще покрытую легким туманом реку, зелень и цветы; неясно, как сквозь дымку, желтеет, колышась, как спелое ржаное поле, чий, и сливается с синеющею далью. Воздух до того живительно хорош, что, кажется, умирающего воскресить.
Мы выступили в шесть часов и пошли от Курчума но предгорью
Буконбая; вправо расстилалась Зайсанская, или Иртышская котловина:
по ней, местами, виднелся Иртыш; за ним, на южном горизонте, в
тумане синели вершины Саура и Мустау. Под вечер, подходя к ночлегу,
мы встретили низины, буквально сплошь покрытые лиловым
душистым ирисом. Охотники наши застрелили интересную птицу,
дрофу-иноходца (как зовут ее киргизы); это небольшая дрофа с
длинными перьями, как жабо, около шеи. Тут же взяли ее гнездо с
яйцами. На следующее утро мы узнали, что германская экспедиция
ночевала верстах
До сих пор мы огибали южное подножие Алтая, теперь же повернули к северу и вошли в горы. С каждым шагом вперед природа становилась роскошнее: лесу еще не было, но цветы и кустарники удивляли богатством и разнообразием. В этот день наша ботаническая коллекция весьма увеличилась, хотя многих растений мы не сумели сохранить. Подъезжая к долине Сенташ, мы нагнали хвост каравана экспедиции; оказалось, что гости наши прошли уже вперед и ждали нас на привале.
Встреча была самая дружеская. Они много рассказывали про путешествие на Алакуль. Знаменитое средство добывать рыбу для коллекций, отравляя ее стрихнином, оказалось вполне не пригодным, и они добывали ее неводом. Д. Финш весьма был доволен своей поездкой на Алакуль и Алатау, где экспедиция достала много интересных и неизвестных им рыб, очевидно, неевропейских пород, между прочим маринку с ядовитой икрой; новые породы ящериц, мелких черепах и проч.
С Алакуля экспедиция отправилась на Бакты, где была встречена зайсанским приставом,
который и повел ее через Чугучак, по долине Емиля и южному склону Тарабагатая,
на Зайсан. В Чугучаке они были в гостях у
Наш недавно выстроившийся Зайсанский пост, с правильно
разбитыми улицами, свеженькими зданиями и арыками проточной воды,
произвел на них самое приятное впечатление. Тут они охотились на
уларов Поездка по китайской границе от Алтая до
Тарбагатая.
Материалы о населенных пунктах Семипалатинской области:
https://rus-turk.livejournal.com/548880.html

 Как избавиться от сухости глаз вечером
Как избавиться от сухости глаз вечером  Услуги электрика Фили-Давыдково
Услуги электрика Фили-Давыдково 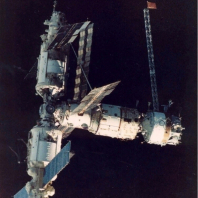 Последний официальный флаг СССР во времена СССР
Последний официальный флаг СССР во времена СССР 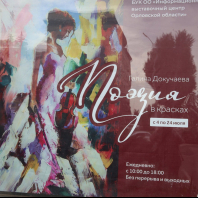 Орёл. Выставочный центр. Выставка Галины Докучаевой
Орёл. Выставочный центр. Выставка Галины Докучаевой  Откуда у неосталинизма ноги растут
Откуда у неосталинизма ноги растут  Прошлое никуда не уходит
Прошлое никуда не уходит 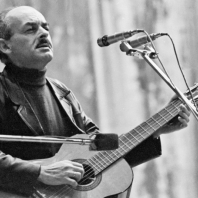 Музыкальный ребус: вечный дуализм
Музыкальный ребус: вечный дуализм  Что такое экономика социализма
Что такое экономика социализма  Трехтонный снежный человек оставил 6000 ЧЕТКИХ следов ... в Израиле. Как тебе
Трехтонный снежный человек оставил 6000 ЧЕТКИХ следов ... в Израиле. Как тебе 



