Башня. Новый Ковчег-5. Глава 22. Маруся
 two_towers — 18.09.2024
two_towers — 18.09.2024
Колонки цифр задрожали, слились в один сплошной массив, а потом разбежались в разные стороны, как мелкие букашки. Маруся помотала головой, сфокусировала снова свой взгляд на мониторе, но маленькие чёрные значки опять рассыпались как бисер. Маруся устало прикрыла глаза, и тут же почувствовала, как проваливается в глубокую яму. Нет, не в яму — в другое измерение, туда, где не было ни цифр, ни графиков, ни коллег, которым одновременно надо всё и сразу, ни орущего Савельева, ни надоедливого Гоши, ни чёртова реактора (она сказала «чёртов реактор»?), никого и ничего, кроме… Из темноты и усталости шагнул он, изогнул в ироничной усмешке красивые губы, насмешливо прищурился: «не могу знать, Марусенька, пока ещё не пробовал», и…
Она резко распахнула глаза, почувствовала лёгкое головокружение и схватилась за край стол. Больно задела локтем ручку соседнего пустого кресла и негромко выругалась.
Димка Гордеев, который должен был сменить её на ночь на пульте управления реактором, с удивлением обернулся, то ли на звук отъехавшего кресла, то ли на её чертыханье.
— Марусь, всё нормально?
— Нормально, — буркнула она.
Димка подошёл, придвинул назад укатившееся кресло, сел в него и вместе с ней уставился в монитор. Пробежался глазами.
— Всё вроде штатно. Вот только нитка №6, температура… — он ткнул пальцем в нужную строчку.
— Савельев сказал, пока оставляем так, а дальше посмотрим.
— А-а-а, — понимающе протянул Гордеев.
Рабочий разговор немного вернул её в действительность. Параллельная реальность, которая не отпускала её с позавчерашнего вечера, медленно отступила на задний план.
— Ну ты иди тогда. И так задержалась, — Димка улыбнулся. — Замученная ты какая-то сегодня.
— Да, Дим, сейчас пойду.
Она бросила взгляд на часы в правом нижнем углу монитора. Чёрт! Засиделась здесь, про время совсем забыла, уже десять минут, как надо быть у ремонтников, Гошка давно убежал, а она… Маруся резко поднялась и тут же вспомнила, что работать после основной смены в бригаде Шорохова ей сегодня днём запретил Савельев.
Павел в последние два дня совсем озверел, это видели и чувствовали все на станции. Он и до этого не отличался корректностью и тактичностью, но сейчас превзошёл сам себя — срывался по поводу и без, припечатывал так, что терялся даже желчный Селиванов, который в скандалах всегда чувствовал себя как рыба в воде.
— Я запрещаю вам, Мария Григорьевна, по вечерам работать сверхурочно, — отчеканил Савельев сегодня после обеда, когда проглядывал результаты последних испытаний. Конечно же, нашёл к чему придраться — Савельев всегда находил, тем более, что идеальных результатов в их работе быть не могло по определению. — Никаких трудовых подвигов в ремонтной бригаде, и без вас справятся, это понятно?
— Сами же говорили, Павел Григорьевич, что там каждая пара рук на счету, — попробовала возразить Маруся, но Савельев тут же взвился.
— Обойдутся без вашей пары рук, Мария Григорьевна. Мне от вас голова ваша нужна, она ценнее. Если вы из-за усталости тут всё нам запорете, вся работа ремонтников, да и остальных, коту под хвост пойдёт. Так что после смены сразу домой и спать. Всё.
— Я не понимаю, чем я отличаюсь от остальных…
— Вы — дура, Мария Григорьевна? — грубо рявкнул Савельев. — Вам объяснить, чем инженер по реактору отличается от простого техника? Я не позволю ставить под удар весь запуск из-за ваших дамских капризов. Это не обсуждается!
И Павел резко отвернулся от неё, тут же набросившись на попавшегося ему в поле зрения Селиванова и отставив Марусю задыхаться от гнева. Дамские капризы, шовинист чёртов! Тут все вкалывают на пределе своих возможностей, и она, Маруся, справляется. Не хуже других. И ошибок, слава богу, не делает. Грубых ошибок.
Конечно, Савельев придирался. И Марусе всё чаще казалось, что делал он это нарочно, из-за личной неприязни. Потому что она ему не нравилась. Потому что ему приходилось терпеть её присутствие. Потому что Руфимов какого-то чёрта из десятка инженеров выбрал её, Марусю, и взял на станцию. Потому что она была занозой. И потому что оказалась его сестрой.
И смириться с этим Павел Григорьевич никак не желал.
Оставив Гордеева на пульте управления, Маруся вышла из БЩУ и остановилась. Идти к себе, несмотря на жуткую усталость, совсем не хотелось. Потому что там, в маленькой комнатке общежития, что она будет делать одна? Лежать на кровати, жалеть себя, гнать в сторону навязчивые мысли, которые никак не желали отгоняться? Думать? О нём думать? Чёрта с два! Маруся зло тряхнула головой. На людях всё-таки легче, можно переключиться на рабочие вопросы, можно, в конце концов, так уделать себя работой, что под конец дня останется только доползти до кровати и вырубиться. Чтоб гарантированно безо всяких сновидений. Так что чёрт с ним, с Савельевым, и его дурацким приказом — у Шорохова её ждут, и потом, в конце концов, почему она должна отдыхать, когда другие пашут?
Маруся решительно зашагала в машзал.
Сейчас два-три часика поработаю, сердито думала она, потом к себе, в душ и спать. Физический труд тем и хорош, что выматывает до изнеможения, не только руки и ноги, но и голова наливается свинцом, становится пустой и тяжёлой, а это как раз, что нужно и нужно именно сейчас.
Она сама не понимала, что уговаривает себя, убеждает, спорит, и этот разговор — несмотря на работу, несмотря на усталость, несмотря на миллион проблем и вопросов — она вела с собой второй день. Ей казалось, что она только периодически падала туда, в то параллельное измерение, иллюзорное пространство, где ей улыбался чужой мужчина и его лицо было близко-близко, и дыхание щекотало щёку, и горячие руки обжигали сквозь тонкую футболку, но на самом деле она всё время там была, все долгие два дня, лишь изредка выныривая оттуда в реальный мир за глотком свежего воздуха. И снова падая в чужие крепкие руки.
В чужие. Вот именно — чужие.
Маруся раз за разом задавала себе вопрос: как так вышло? Как получилось, что чужой мужик — да красивый, да обаятельный до невозможности, да харизматичный, но при этом самовлюблённый, наглый, с сомнительными моральными принципами — настолько глубоко вошёл в её жизнь, всего за каких-то несколько дней.
«Он — преступник, — сказала она себе, забыв, что за последний час произнесла это уже раз двадцать. — Преступник и не только. Даже если половина того, за что его осудили, правда, он просто первостатейный мерзавец. А ты, Маруся, влюблённая дура. И так тебе и надо!»
Что было «так и надо», почему ей было так и надо, Маруся не понимала. Но ей казалось, что если она будет ругать себя похлеще, то всё само собой устаканится, вернётся и станет, как раньше, как было до него, потому что до него с ней ничего подобного никогда не случалось. Было обычно. Романы, отношения, яркие и скоротечные, нудные и вялотекущие, иногда уходила она, иногда уходили от неё, но, чтобы какой-то мужчина занозой сидел в голове — это уже перебор.
Конечно, во многом она виновата сама. Дала ему втянуть себя в эту игру, флиртовала, подкалывала. Где у неё глаза только были? Такие мужики, как Литвинов, наметив себе жертву, так просто от себя не отпустят — он и не отпускал, оказывал ей недвусмысленные знаки внимания, действовал нахрапом, наскоком. Самоуверенный красавец, привыкший всегда добиваться своего. Ну и добился, разумеется. «Потому что ты — дура, Маруся», — опять повторила она.
А ведь если подумать, он даже не в её вкусе. Ей всегда нравились мужчины серьёзные, основательные, надёжные. По крайней мере Маруся так думала и никогда не велась на внешность, даже в юности. Красота — это только обёртка, иллюзия, сколупни её, а что там — бог знает. Маруся предпочитала не рисковать и с красавчиками, хоть их было и не сильно много в её жизни, расправлялась быстро и незатейливо.
— Вот ты, Маруся, странная, — говорила ей Зинка Круглова, закадычная подружка, глядя, как Маруся отправляет в школьный шредер записку от Игоря Любимова. — Ну и сходила бы с ним в кино. Убыло бы от тебя что ли?
Маруся считала, что убыло бы. Тем более, она ни на грош не верила этому Любимову и не желала пополнять собой длинный список его побед — обойдётся. Зинка пожимала плечами, мол, делай, как знаешь, и тут же перескакивала на другое: оценки, сплетни, наряды… Зинке всегда было что обсудить.
Иногда Маруся завидовала подружке. От Зинки Кругловой точно ничего не убывало — её безразмерного сердца хватало и на живых красавцев, и на выдуманных, кинематографических. Был в Зинкиной жизни период, когда она с ума сходила по допотопным киноактёрам, хорошо хоть не по всем разом, тут подруга соблюдала очерёдность, и слава богу, иначе бы Маруся вконец запуталась. Она и так частенько промахивалась: называла Алена Делона Томом Крузом, а однажды, глядя на увеличенный портрет Бреда Пита, который Зинка торжественно вывесила у себя в спальне над кроватью, сказала, желая доставить подруге приятное: «Здесь Данила Козловский ничего так получился». Зинка с ней потом два дня не разговаривала.
А разве Маруся была виновата? Они же все слащавые, приторные, как чай, который наливала им Зинкина мама, и все — вот абсолютно все! — на одно лицо. И вообще, как можно любить за внешность? Вот этот, которого она перепутала, ну красавец и что? А вдруг он придурок или подлец? Или трус? Как можно влюбиться в картинку?
И вот, по всему выходило, что сама Маруся в такую картинку и влюбилась, с той единственной разницей, что Борис Литвинов улыбался ей не с фотографии, что — если подумать — было ещё хуже.
Борис был живым, реальным. И все поступки его были реальными, не придуманными. И то, что Маруся о нём знала, должно было отталкивать, но… почему-то не отталкивало. Она перечисляла себе все его недостатки — а их было вагон и маленькая тележка, — а потом натыкалась на его взгляд, одновременно насмешливый и восхищённый, и терялась. В голову лезли совершенно дурацкие мысли, и когда в столовой он подсаживался к ней, близко, очень близко, ей хотелось, чтобы всё уже наконец случилось, и, ловя смешинки в наглых зелёных глазах, она видела, что он всё понимает — читает её мысли и желания, как открытую книгу.
Маруся злилась. Прежде всего на себя — за то, что вдруг начала вести себя хуже Зинки Кругловой, помешавшейся на том Козловском Бреде Пите, а Борис наступал, поддразнивал, намекал, а, устав намекать, стал говорить открытым текстом. Его не отрезвила ни пощечина, ни вывернутая на голову тарелка каши, что, конечно, было уже слишком, но, если б Маруся тогда так не сделала, она бы сломалась. Хотя она всё равно сломалась. Сдалась. Уступила. Пошла на поводу у неудовлетворённых желаний.
…Однажды Зинка (они тогда уже были стажёрами в энергетическом секторе, и им выделили комнату на двоих в общежитии) притащила книжку по прикладной психологии, заявив, что Марусе не везёт в личной жизни, потому что она всё делает неправильно, и ей просто жизненно необходимо эту книжку прочитать. Маруся, смеясь, послала Зинку вместе с книжкой и психологией подальше, но Зинка была бы не Зинкой, если б сдалась. Не обращая внимания на насмешки и обуреваемая жаждой Марусиного просвещения, подруга раскрыла книгу и принялась зачитывать вслух, громко и с выражением:
— Раздел семь. Неудовлетворённые желания. Неудовлетворённые желания — это катастрофа. Они порабощают человека, лишают его разума, заставляют думать только о том, как получить вожделенное.
— Там так и написано «вожделенное»? — хохоча, уточнила Маруся.
— Так и написано, — невозмутимо подтвердила Зинка и продолжила. — И поэтому желание надо удовлетворить. А удовлетворённое желание — это уже пройденный этап. Можно через него перешагнуть, поставить галочку и двигаться дальше. К тому же, очень часто бывает, что исполненная мечта оказывается вовсе на такой волшебной и прекрасной, как казалась…
Книжку ту Маруся, конечно, читать не стала, забросила куда-то и забыла, а вот раздел семь про неудовлетворённые желания крепко осел в голове, и именно здесь на станции, с появлением Литвинова, вся эта психологическая муть вдруг вылезла из каких-то дальних уголков памяти, вцепилась в Марусю, а потом и вовсе трансформировалась в то, что случилось позапрошлым вечером.
В удовлетворённые желания — Маруся невесело хмыкнула.
Ну да, ей действительно казалось, что если переспит с Литвиновым, то наваждение закончится. В конце концов, он — всего лишь обычный мужик, пусть и чертовски обаятельный. Ну чем, в самом деле, он сможет её удивить? У других особо не получалось. Приятно — да, но чудесных чудес в постели Маруся не припоминала.
Потому она и решилась на этот идиотский шаг — самой прийти к Борису.
Нет, это она сейчас понимала, что шаг был идиотский, но тогда, два дня назад, он ей казался очень даже логичным и правильным. Они переспят и потеряют интерес друг к другу. Это как корью переболеть. Переболел — и живи дальше. Но всё вышло только хуже. И Маруся окончательно запуталась.
С этим чёртовым Литвиновым всё оказалось по-другому, не так, как у Маруси было раньше, и весь её скудный опыт тут же поблёк и выцвел. Конечно, она пыталась объяснить себе это тем, что Литвинов — просто опытный мужик, у него баб было десятки, если не сотни, и это было правдой, но лишь отчасти. Дело же не только в особенных умениях Бориса. Дело в ней, в Марусе, и когда он крепко обхватил её за талию и резко привлёк к себе, у неё перехватило дыхание и потемнело в глазах. А ведь они ещё даже не начали, а уж потом… Маруся и сейчас, спустя два дня, всё ещё ощущала прикосновение его рук и губ на своём теле, вспоминала его склонившееся над ней лицо, потемневшие зелёные глаза и понимала, что это — конец. Теперь от неё уже ничего не зависело, и, отдавшись ему, она окончательно перестала контролировать ситуацию. Просто пропала. Она, Маруся, пропала.
А ведь всё должно было быть не так.
Когда она шла к нему, уверенно стуча каблучками по полу уже пустого в этот час общежития, её воображение рисовало вполне определённую картину: после того, как всё случится — встать, одеться и уйти. Ну и пустить какую-нибудь шпильку напоследок — Маруся умела пускать шпильки. И сделать ручкой: ариведерчи, Борис Андреевич, всё было классно.
Какое там ариведерчи? Какие шпильки? Сначала она просто задохнулась от счастья, а потом, когда всё закончилось, её вдруг накрыло паникой, придавило, потому что теперь она точно знала, что никуда от него не уйдёт, как знала и то, что уходить надо.
Он что-то шептал ей и проводил по лицу горячими нежными пальцами, бережно убрал короткую прядку за ухо, коснулся губами кончика носа, а она, как последняя дура, лежала, крепко зажмурившись, и притворялась спящей. И отчаянно желала невозможного: чтобы он куда-нибудь ушёл, и чтобы никуда не уходил.
А когда он всё-таки встал и отправился в душ, вскочила и принялась лихорадочно одеваться, путаясь и не попадая ногой в штанину брюк. Она металась, как угодивший в ловушку зверёк, слепо тыкалась, пытаясь найти выход, а когда наконец-то нашла, услышала его недоумённый голос:
— Ты куда?
И всё.
Ловушка захлопнулась.
Дальнейшее Маруся помнила смутно. Она испугалась, и, как это часто с ней бывало, её понесло. Обидные и колкие слова вылетали как горох. Ей хотелось задеть его побольней, разозлить, она припомнила ему всё — и его тёмные делишки, и карантин, и наркотики, ввернула зачем-то напоследок про кровать эту дурацкую, про галочку в списке и про новые вершины и победы. Она вываливала на него свою растерянность и свой страх, видела удивление и обиду, какую-то совершенно мальчишечью, в зелёных и усталых глазах, и сквозь все эти глупые, ненужные, напрасные слова, оскорбительные фразы, насмешки, птицей билось и никак не могло прорваться одно единственное, что имело значение: Боря, не отпускай меня. Просто не отпускай…
С тех пор она будто бы разделилась на две части — на двух Марусь, которые хотели совершенно разного. Одна осталась там, с ним, и сходила с ума от счастья, постоянно вызывая в памяти тот вечер. Эта Маруся рассказывала, как бы всё могло быть, если бы она не сбежала в ту ночь, рассказывала обстоятельно, в красках, заставляя представлять всё в деталях: вот они лежат и перебрасываются дурацкими подколками, смеясь, пытаются поудобнее устроиться на тесной кушетке, потом возятся с кроватями, сдвигая их вместе. А дальше — дальше всё обязательно бы повторилось. И было бы наверняка даже лучше того, что получилось в первый раз. А на следующий день они бы нарочно искали друг с другом встреч, чтобы просто столкнуться глазами, делали бы вид, что между ними ничего нет. И Борис бы исполнил своё обещание — раздобыл огромную двуспальную кровать, которую они опробовали бы на следующий вечер. И от этих ярких картин несбывшегося, которые Маруся с каким-то упрямым мазохизмом гоняла в голове, ей становилось одновременно сладко и больно.
И тогда подключалась вторая Маруся.
«Думаешь, что всё было бы так? А вот и нет! Всё было бы совсем по-другому, и ты сама прекрасно это знаешь», — аргументы были беспощадны, логичны и неопровержимы. Эта другая Маруся, умная и рассудительная, в два счёта доказывала, что всё она сделала правильно, что так и надо было — прекратить сразу, окончательно и бесповоротно, потому что она, Маруся, взрослая, здравомыслящая женщина, инженер, правая рука начальника станции, способная управлять собой и своими эмоциями. А Борис, может, на первых порах и вёл бы себя, как она себе навоображала, но потом, и очень скоро, переключился бы на другую бабу. Потому что под обаятельной внешностью скрывался расчётливый и холодный подлец, шедший к власти по чужим жизням. Такие как он воспринимают всё как вызов, как непрерывную цепь своих достижений на пути к собственному благополучию. Литвинов — игрок, а она, Маруся — очередной приз в очередной игре, причём, так себе приз, который, можно сказать, сам приплыл в руки. Разве Борис остановится? Да никогда. Надоест — выкинет её, как использованную тряпку. И уж лучше вот так — обрубить и всё.
Эти две Маруси постоянно спорили в её голове, доводя до исступления, и заставить их заткнуться могла только работа.
— Мария Григорьевна? Куда это вы направляетесь?
Резкий окрик вывел её из задумчивости. Маруся подняла глаза и увидела Савельева.
— Я? — она растерялась от неожиданности, смутилась. — Я… к себе… — ляпнула она первое, что пришло в голову.
— Да? — хмыкнул Савельев. — К себе, значит. Общежитие, если вы забыли, в другой стороне. Я так понимаю, что мои распоряжения для вас, Мария Григорьевна, пустой звук? Плевать вы на них хотели, так?
Маруся прикусила губу, упрямо уставившись на Павла.
— Понятно, — Павел недобро сверкнул глазами. — Пойдёмте со мной.
И направился в свой кабинет, точнее, в бывший кабинет Руфимова, который временно занял, пока Марат Каримович отлёживался после операции. Маруся, кляня себя и так не вовремя попавшегося ей Савельева, последовала за ним.
Войдя в кабинет, Павел указал ей на диван, но она из какого-то упрямства не села. Осталась стоять, с вызовом глядя на него. Он хмыкнул, подошёл к столу, какое-то время постоял к ней спиной, как будто собирался с мыслями, потом медленно развернулся, тяжело упёрся ладонями в столешницу.
— Значит, вы не желаете понимать, почему я вам запретил. Уж не знаю, от глупости или из упрямства. Хорошо, Мария Григорьевна, я вам ещё раз объясню, почему я запретил вам работать после вашей смены.
Маруся вдруг почувствовала, что с неё хватит. В ней медленно, но неотвратимо поднималось раздражение и даже гнев. Что он там вообще для себя решил? Что он царь и бог? Что он может распоряжаться ею не только во время работы, но и после?
— А другим? — перебила она Савельева. — Другим вы тоже объясните, Павел Григорьевич?
— Что именно я должен объяснить другим? — он сбился, недоумённо посмотрел на неё. — Вы не понимаете…
— Нет, это вы не понимаете. Ни хрена вы не понимаете, Павел Григорьевич. И так все вокруг только и делают, что шепчутся за нашими спинами, что вы меня выдвинули, только потому что я — ваша сестра. А некоторые и в открытую говорят, Селиванов тот же — при каждом удобном случае мне этим тыкает. А если я сейчас перестану выходить со всеми к ремонтникам, то и не только Селиванов будет говорить. Это мы с вами понимаем, что наше с вами родство — фикция, досадное недоразумение. А остальные думают, что у нас родственные чувства и всякое такое, и что я тут на особом положении.
— Но это же… Да при чём тут родственные чувства? Какие, к чёрту, чувства? — Савельев растерялся, а Маруся вдруг разозлилась так, как, кажется, не злилась никогда в жизни, у неё даже в глазах потемнело.
— Никаких! И не думайте, что я этого не вижу. И мне, как и вам, всё равно. Это ничего не значит. Мы чужие друг другу люди. И я тоже не в восторге от ситуации. Но вот остальные…
— Послушайте, Мария Григорьевна…
Но Марусю уже понесло. Все сдерживаемые эмоции, усталость, и физическая, и главное внутренняя усталость от постоянной борьбы с собой, вдруг вырвались наружу. Она смотрела на этого непробиваемого, чужого человека, который по нелепому стечению обстоятельств оказался её братом, и ей хотелось вцепиться в его невозмутимую физиономию, чтобы и ему было больно, так же больно, как ей. Потому что — да, ему плевать на неё, он злится от одной мысли, что она его сестра. И он никогда её не примет. Ну и чёрт с ним. Она даже этому рада. Пусть не принимает. Ей не больно-то и хотелось.
— Нет, это вы послушайте! Я не виновата, что мой… наш … ваш отец оказался и моим отцом. Я понимаю, что вам это неприятно, но сделать с этим мы ничего не можем. И нам придётся друг друга терпеть, по крайней мере пока мы не запустим эту станцию. Но я не желаю, чтобы все вокруг думали, что у меня есть какие-то привилегии. Из-за того, что у нас общая фамилия. И я не знаю, что вы там себе возомнили, но указывать мне, что делать, вы можете только в рабочее время. А сейчас моя смена закончена, и в своё свободное время я буду делать то, что сочту нужным. И вас я спрашивать не собираюсь.
— Нет, чёрт возьми, вы будете делать то, что я говорю! — Павел повысил голос, желваки опасно заходили, он едва сдерживался. — Будете! Потому что ваше безответственное поведение отражается на вашей работе. У нас особая ситуация. Считайте, что военное положение. И нет у вас никакого свободного времени. Пока мы запускаем станцию, всё ваше время — рабочее. И я буду вам указывать, что делать. И мне плевать, что думают по этому поводу остальные. Всё это ровным счётом ничего не значит.
— Конечно, ничуть не сомневаюсь, что для вас это ничего не значит. Для вас вообще чувств других не существует. Вы, Павел Григорьевич, бесчувственный чурбан, эмоциональный инвалид, не способный на простые человеческие чувства. Прёте к своей цели, не замечая, что вокруг вас живые люди, а не агрегаты и машины. Самим вам на всё плевать, и думаете, что и другим тоже? Так вы думаете? Вы столько мучений всем принесли, особенно тем, кто рядом с вами. Нацепили на себя сияющие доспехи, возомнили себя спасителем человечества и прёте по головам, не обращая внимания на жертвы. И на чувства других. Они же для вас так, пустой звук, слабость, которую вы в себе убили, и желаете, чтобы и другие, так же, как и вы, ничего не чувствовали. А когда другие проявляют эти чувства, считаете их слабостью и осуждаете. Думаете, я не вижу, что вы меня на дух не переносите? А вы не переносите, и знаете, почему? Потому что отца простить не можете! Потому что он, видите ли, оказался не таким железным и несгибаемым, как вы себе там возомнили. Потому что он был просто человеком, который хотел любить. И любил! Мою маму любил. И меня тоже. А вы его осуждаете. Думаете, я не вижу? Осуждаете за то, что у него была я. За то, что он был с моей мамой. И даже за ту историю чёрт знает какой давности. А вы права не имеете его осуждать. Потому что он был человеком, а не роботом бесчувственным. В отличие от вас. Он умел любить. А вы… вы только боль другим можете приносить. И больше всего вы причиняете страдания тем, кто вас любит. Потому что вы… вы — дундук! Вот вы кто!
Всё это Маруся выплеснула на Савельева, совершенно перестав контролировать себя. Последние слова и вовсе были лишними, потому что получалось, что и она… она его любит, но это не так! Вовсе она не любит этого чужого и жестокого человека, который так явно тяготится их внезапным родством, что даже не считает нужным этого скрывать. И плевать ей на это, тоже мне, брат выискался. Но почему-то, выпалив эти слова, Маруся почувствовала жалость к себе. Потому что…
Почему, она додумать не успела. Дыхание перехватило, что-то внутри оборвалось, на глаза навернулись слёзы, она попыталась загнать их, спрятать, но выходило только хуже. Этот человек, её брат, стоял напротив неё с чужим отстранённым лицом и не понимал. Ничего не понимал, хоть и был одним из самых умных людей, которых она когда-либо встречала.
И Маруся, не отдавая отчёта в том, что делает, опустилась на диван и разрыдалась.
— Мария Григорьевна… Маруся… Ну, что вы… не надо так, чёрт…
Его растерянный голос раздался совсем близко. Она плакала, закрыв лицо руками, и не видела, как он подошёл. Даже не слышала.
Павел немного постоял, словно не мог решиться, потом опустился рядом. Диван был немаленький, но он всё равно сел, прижавшись к ней. Маруся почувствовала прикосновение его плеча, и почему-то слёзы полились ещё сильней.
— Ну, пожалуйста, не надо, — Павел, кажется, совсем не понимал, как себя вести, видимо, он был из тех мужчин, которые не выносят женские слёзы, пугаются их. — Я не хотел вас расстраивать. Ну, не плачьте… не плачь…
И он неловко и даже робко приобнял её за плечи. Она дёрнулась, попыталась скинуть его руку — ещё не хватало тут с ним обниматься, но Савельев не позволил. Наоборот, сильнее привлёк её к себе, и она вдруг уткнулась в его плечо.
От этого жеста Маруся разрыдалась ещё сильнее. Ей было неловко, стыдно за свою истерику, она пыталась взять себя в руки, но ничего не могла с собой поделать, рыдания рвались из неё, заставляя подрагивать всем телом, и эта неожиданная опора в виде его плеча одновременно и смущала её, и давала совершенно новое для неё чувство защищенности. И откуда-то из детства, зыбкой явью, возник другой мужчина, большой и сильный.
Маленькая девочка, растрепанная и раскрасневшаяся от игр, несётся, расставив в стороны руки, как летящий по небу самолёт.
— Маруся! Девочка моя!
Сильные руки подхватывают, подбрасывают вверх. Страшно и весело одновременно. Детский смех рассыпается звонкой капелью, катится разноцветными шариками, кружится по комнате.
— Гриша, осторожно, ты её уронишь!
— Мою Марусеньку? Никогда!
Руки прижимают к себе, сильнее, крепче. И смеющаяся детская мордашка утыкается в сильное и надёжное плечо. И мягкой и тёплой волной накрывает счастье…
*************************************
|
|
</> |

 Ravenclo – гармония стиля и производства поможет в создании уникального мерча
Ravenclo – гармония стиля и производства поможет в создании уникального мерча  Павел. Первый и последний
Павел. Первый и последний 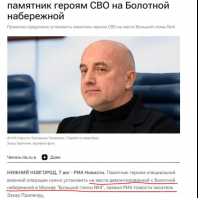 Пока обед. Жендос Прилепин и г***о, как олицетворение парадигмы нашего
Пока обед. Жендос Прилепин и г***о, как олицетворение парадигмы нашего  Край земли
Край земли  Affect vs. Effect: англоязычная мафия под прикрытием
Affect vs. Effect: англоязычная мафия под прикрытием  "Here we go!"
"Here we go!"  Южная Африка: Саймонс Таун (город, пляжи с пингвинами)
Южная Африка: Саймонс Таун (город, пляжи с пингвинами)  Шана Това, товарищи!
Шана Това, товарищи!  От Владимирского льва до Йошкиного кота (часть 10)
От Владимирского льва до Йошкиного кота (часть 10) 



