28 марта 1943-го года
 vazart — 28.03.2023
из дневников
vazart — 28.03.2023
из дневниковВсеволод Вишневский, писатель, 42 года, политработник, Ленинград:
28 марта.
«На фронтах существенных изменений не произошло». (Начало весенней паузы?)
К 1 мая 1943 года Монетный двор изготовит 200 000 медалей «За оборону Ленинграда». Медаль светло-бронзовая.
...В 5.30 дня поехал с С. К. в Большой драматический театр (вернулся из эвакуации) на «Дорогу в Нью-Йорк».
«Большая премьера» — много знакомых. Разговоры, приветствия. Давно не дышал этим «премьерным» будоражащим театральным воздухом. Спектакль свежий, лирически-комедийный. Пахнуло далеким миром, музыкой, ароматом расцветающей юной любви... Не раз щемило сердце: когда же наш народ вернет себе мирную жизнь? Странно звучит этот спектакль в нашем городе на двадцатом месяце осады. И все-таки: жизнь неистребима, дьявольски упорна!
...В 11.30 вечера радио: крупнейшая бомбежка (английской авиацией) Берлина...
Наша АДД тоже действует. На днях были объявлены крупные награждения летчиков; преобразования нескольких частей АДД в гвардейские.
Примечание: АДД - Авиация дальнего действия.
Всеволод Иванов, писатель, сценарист, 49 лет, Москва:
28 марта. Воскресенье.
Выступал рано по радио. Восторженный, восхищенный всем, Д. Орлов и важный, точно жующий ананас, А. Шварц. Дождь, мокрый снег под ногами, в газете «Совинформбюро» спорит с немцами из-за потерь в войне, — холодный зал им. Чайковского, в котором чувствуешь себя, как чаинка в чайнике, — утренник о Горьком. Прочел то же, что и по радио. Чуковский возмущался современными детьми, говорит, что будет писать об этом Молотову (проституция, воровство, прячут во рту «безопасные бритвы» и подрезают друг друга), а затем рассказывал аудитории анекдоты о Горьком. Федин, — классический, как собрание сочинений, прочел из беленькой книжки, которая только что вышла, — воспоминания. И он негодовал, что у него что-то вырезали!.. Сурков, в золотых эполетах, уже стертых по краям, наклонившись к публике, беседовал с ними о Горьком, который, — видите ли, был к нему близок!.. Никто не верил этому прокуренному голосу и этим пустым и ненужным, как потухшая спичка, стихотворным строчкам. Холодно. Публика в пальто. Екатерина Павловна благодарит Федина за прочитанное, Надежда Алексеевна, как всегда, обольстительно улыбается...
Оттуда зашел к Мане. Она расчесывает волосы, смотрит книжку, улыбается... в юности отец не понимал меня, и я не очень его понимал. Так мы и расстались. И вот я теперь стал старый, смотрю на дочь, которая, третьего дня, хотела отравиться, и — и тоже ничего не понимаю, не найду истинной причины.
Харьков (рассказывал знакомый Татьяны): «Ночью идешь и — звенит железо, балки в сожженных и разрушенных домах; все новости у водопроводной колонки; дети, многие, говорят по-немецки; жители приветствуют полуфашистским поднятием руки — наполовину; ночью, после восьми, ходят только „ответственные“, так в них стреляют; подошел и спросил у прохожего — как пройти туда-то, а тот поднял руки — немец; радиоприемник, вмонтированный профессором в стену, передавал сведения „Совинформбюро“ — двум, остальные, каждый, тоже двум, так и шло „по цепочке“, заводил граммофон, чтобы слушать передачу; матросы, скованные по рукам и ногам, идут под немецким конвоем по улице, увидали, что девушки идут под руку с немцами — закричали: „Эй, разъе<...>, по х<...> стосковались, будьте вы прокляты!“»
С К. И. Чуковским — о дневнике. — «Ведь я не пишу о войне, а только о литературе, о войне будут писать все, а о литературе — никто, тогда как это-то и будет наиболее интересно, позже». — Я ему сказал, что веду дневник о себе, — и для себя, так как, если удастся, — буду писать о себе во время войны. — «А вот я об Екатерине Павловне, — что она рассказывала, — запишу». Сестра Надежды Алексеевны слушала передовую «Правды» и ей показалось, будто передовую эту написал Сталин: «диктор читал так многозначительно». Не проверив, — она и бухни благодарственное письмо Сталину, что, мол, нашли время написать о Горьком, — в такие дни!.. Были Толстой, Леонов, Федин, — и родственники. Ужин, — слабоватый, конечно, два графинчика водки и две бутылки вина. Леонов, важный, опухший, рассказывал о бане, что он рассказывал уж сотни раз. Это не значит, что не наблюдательный — но он так жаден, что не передает своих наблюдений, боясь, что украдут. Поэтому, для внешнего употребления у него есть — баня, кактусы, и обработанные наблюдения, которые он уже вложил в романы. Толстой сказал:
— Вы, Всеволод, похожи на бухгалтера. Был такой бухгалтер, сидел тихо, говорил мало, весь в черном. А, вдруг, вскрикнул, вспрыгнул на стол, и пошел прямо по блюдам и тарелкам!
— Махно?
Он захохотал: — Махно! Ха-ха-ха!.. Еще удивительней!..
Иван Бунин, 72 года, Франция:
28 марта. Воскр. Вечер. Часы переведены еще на час вперед — сейчас уже 12 Ч, т. е. по-настоящему 10 Ч.
Радио: умер Рахманинов.
Сохранено
|
|
</> |

 Apple Watch SE: оптимальный выбор умных часов для здоровья и повседневной жизни
Apple Watch SE: оптимальный выбор умных часов для здоровья и повседневной жизни 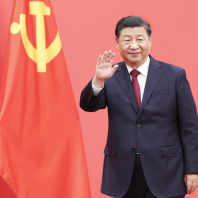 Блокировка звонков в мессенджерах...
Блокировка звонков в мессенджерах...  Полежаев хотел церковь в дендропарке
Полежаев хотел церковь в дендропарке  Необязательные мемуары. Дочь Михоэлса
Необязательные мемуары. Дочь Михоэлса  На деревню к дедушке, 2025 года
На деревню к дедушке, 2025 года  Почему такой красивый готический стиль так и не прижился в России?
Почему такой красивый готический стиль так и не прижился в России?  Неужели уже сентябрь?
Неужели уже сентябрь?
 Двойной удар по будущей пенсии. Как государство с помощью ИПК ограничивает
Двойной удар по будущей пенсии. Как государство с помощью ИПК ограничивает  Не пишется
Не пишется 


