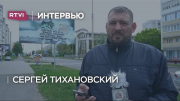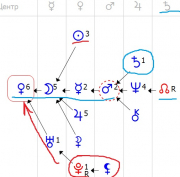Застрявший в горле бутерброд
 swamp_lynx — 23.06.2024
"В последнее время было издано много
томов переписки Шмитта с разными людьми, я поражен, конечно, когда
они писали, когда читали, как все сохраняли… ну, как… заводили
архивы и тряслись над рукописями, поэтому и знаменитые, техника
простая.
swamp_lynx — 23.06.2024
"В последнее время было издано много
томов переписки Шмитта с разными людьми, я поражен, конечно, когда
они писали, когда читали, как все сохраняли… ну, как… заводили
архивы и тряслись над рукописями, поэтому и знаменитые, техника
простая.Но я сегодня подумал:
А что писали они друг другу — если — 22.06.1941?
И вот нашел пока у Эрнста Юнгера.
Юнгер ровно в этот день пишет Шмитту из Парижа, делится мыслями о Верлене и Малларме, приглашает распить бутылочку-другую вина, когда Шмитт будет в Париже.
И между прочим замечает:
Сегодня мой ординарец сообщил мне о начале войны с Россией. Я воспринял это так, как учил дед (он был учитель): считай, что ешь бутерброд»." Александр Филиппов.

"Ну, что сказать. Количественно основную часть своей жизни Юнгер прожил уже после 1945 года, безо всяких там призывов к тотальной мобилизации. Да и до того сторонился заядлых наци.
Но все же он был вояка, настоящий воин, офицер, враг.
И на его примере мы хорошо видим, что немцы великий народ и могут быть при этом очень милы.
Но трансцендентальным условием этой милоты является крепко засевшая, на уровне тела, память о застрявшем в горле бутерброде."
***
"В конце прошлого года писал, что, хотя правда, видимо, что Советский Союз не собирался нападать на Германию, что бы там ни клеветали, но очень жаль. Если бы Сталин опередил Гитлера, то не было бы ни блокады Ленинграда, ни Освенцима, Майданека, Треблинки, не было бы сожженных Гамбурга и Дрездена, остановились бы Бухенвальд и Дахау.
Не будем лукавить, чего уж. Гулаг бы здорово прирос, много было бы разных леденящих душу историй, но задачи массового обезлюживания территорий на расовой основе никогда не входили в число первоочередных задач советской власти, хотя не все с этим согласны. Природа и, главное, перспективы ее зверств были другими, и это,собственно, и подтвердилось, когда Красная Армия все-таки вошла в Европу.
Но нет — так нет. Получается, что мы зачем-то сохраняем господствующий советский нарратив времен борьбы за мир во всем мире: Советский Союз все устраивало, и он первый никогда бы не стал нападать на Гитлера, никогда, никогда! Кто бы мог подумать, что такой надежный партнер проявит вероломство.
Ну, ОК. Если считается, что так надо говорить про то, что действительно было, пусть говорят.
Но мы же можем построить модель одного из возможных миров?
В этом возможном мире Сталин не питает иллюзий и действительно успевает раньше. В точном соответствии с советскими книгами для детей и взрослых война идет малой кровью и на чужой территории. Советские войска наступают, немецкие отступают. И что дальше?
Дальше, думаю, Черчилль зовет себе из казематов Рудольфа Гесса и говорит:
— Так что вы рассказывали о совместной борьбе европейцев за культуру?
Гопкинс летит в Москву и, вернувшись, огорченно докладывает Рузвельту, что уговорить Сталина прекратить агрессию против европейской страны совершенно невозможно.
И Черчилль с Рузвельтом открывают второй фронт.
В это время Штауфенберг и Канарис...
В общем, ладно.
Что было — то было.
А чего не было — того не было."
***
"У Дика ("Убик") расползание ткани времени прекращается, когда герои достигают 13 сентября 1939 года. Они спускаются из будущего (для нас оно прошлое, а для тогдашнего Дика будущее) с его автоматикой и синтетикой в то время, когда бумажники были из кожи, передача в автомобилях была ручная, а в лифтах гостиниц сидели лифтеры.
В этом мире, прикидывает герой, можно было бы обосноваться, он такой прочный, надежный и по-своему уютный. И впереди прогресс, основные вехи которого приятно будет пережить.
И тут он слышит, как негра его водитель называет ниггeрoм, в пассажире с подозрением пытается опознать европейского еврея-иммигранта, а сообщения о только что начавшейся войне комментирует в том смысле, что Рузвельту давно пора объединиться с Гитлером и ударить по большевикам, которые угроза куда больше, чем фашисты.
Уютная Америка 30-х несла в себе много возможностей, и Дик исследовал их не раз."
***
"Некоторые коллеги, по старой привычке причисляющие себя к среднему классу, отреагировали на новые санкции примерно так, как Петя Ростов на огромного француза на лошади (или что там у него):
Они хотят убить меня! Меня, которого так любят все!
И ведь убили Петю.
А если бы он не думал про себя лишнего, а просто бы убил француза, то уже в скором времени наслаждался бы шедеврами французской культуры. Или хотя бы кухни. И может быть даже женился бы на француженке, вдове убитого им всадника. Или на старшей дочери.
Кстати, очень жаль, что именно этот момент схватки Лев Николаевич не описал также и с точки зрения того самого француза.
Он, может, как увидел Петю, вообще обделался.
И убил.
Просто у него не было другого выбора."
***
"Одним из широко известных понятий Шмитта является "der gehegte Krieg" — оберегаемая, лелеемая война.
Как это можно лелеять войну?
Шмитт считал, что такой она была в Европе в эпоху ius publicum Europaeum. Государства воевали между собой, но было известно, что одни причины войны норм, а другие беспредел. То есть для войны есть iusta causa, а вообще война касается военных, и хотя гражданским тоже достается, но скорее по беспределу, чем в порядке вещей. Это уже позже, на пороге XIX в. Кант сообразил, что территории с людями — это не чемодан, который можно совать туда-сюда по договору между сторонами, потому что люди образуют общество, а не просто так себе обитают. А до этого подданные переходили от государя к государю и даже могли присягать на верность, если требуется. Но потом всему пришел конец. Войны стали между нациями, правила перестали соблюдаться, основа права народов — разного рода связи элит, унаследованные с еще догосударственных времен имперской Европы, оборвались или перестали работать. Ну и национальные государства, конечно, это вам не баран чихнул.
Шмитт думал, что благословенное время оберегаемых войн ушло навсегда, и отказывался признавать себя беллицистом.
Но что мы видим?
Вроде бы, старик не ошибался в той части, что теперь объявление войны предполагает, что на одной стороне род человеческий, а на другой нелюди. Поглядишь нынешнюю риторику конфликта — и аж заколдобишься.
Но по сути все не так.
При угрозе — не миновавшей, а мб даже нарастающей, какой-то совсем уже нехорошей истребительной и тотальной войны, происходит самоорганизация конфликта не просто в вялотекущий — это бы еще куда ни шло, — но именно в конфликт с какими правилами, которые не признаются как таковые, не проговариваются на публику, но явно имеются.
Конечно, можно сказать, что нетронутость столиц — это благодаря хорошему ПВО, отсутствие диверсий с десятками тысяч жертв — это прекрасная работа спецслужб, неполное, но скорее регулярное избегание прицельного огня для убийства гражданских — это все сказки, которые о себе рассказывают изверги в целях пропаганды.
Но de facto и без дополнительных соплей вырисовывается картина, повторим еще раз, как бы некоторого соблюдения и даже еще точнее: формирования по ходу дела правил, которые между прочим не настраивают на оптимизм.
Конечно, мы знаем, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Это само собой и не обсуждается.
Но вот время до того как — это, возможно, именно историческое время. Не время отклонения от хода истории, а сам новый ход истории, достаточно продолжительный, чтобы применить к нему понятия ушедших эпох и забытых мыслителей."
 vassisualyi: Бывает ли культура и
даже цивилизация без государства? Вы можете привести пример когда
государство рухнуло а культура расцвела?
vassisualyi: Бывает ли культура и
даже цивилизация без государства? Вы можете привести пример когда
государство рухнуло а культура расцвела?В СССР обывательская западная культура вытеснила и русскую, и новодельную советскую культуру. Так эллинизм вытеснил автохтонные культуры Ближнего Востока, но такое вытеснение не может быть постоянным, оно сменяется застоем и разложением. Для укоренения чуждой культуры нужно заменить местное население на тех, кому эта культура присуща, или направленно истреблять местную культуру поколение за поколением — Мезоамерика, например. Да и то скорее всего появится какой-нибудь странный симбиоз.
 kryloyashher: Если государство
воспринимается как естественная и закономерная структура в
контексте взаимодействия общества с внешней средой, то наличие в
нём принципов, свойственных живым системам вполне логично. А
принципов не много: целое важнее части, основа выживания —
приспособленность за счёт дарвиновской триады (наследственность,
изменчивость, отбор. В социальном выражении претворяющиеся в
упомянутые в исходном тексте государство, культура, патриотизм,
насилие, войны ...)
kryloyashher: Если государство
воспринимается как естественная и закономерная структура в
контексте взаимодействия общества с внешней средой, то наличие в
нём принципов, свойственных живым системам вполне логично. А
принципов не много: целое важнее части, основа выживания —
приспособленность за счёт дарвиновской триады (наследственность,
изменчивость, отбор. В социальном выражении претворяющиеся в
упомянутые в исходном тексте государство, культура, патриотизм,
насилие, войны ...)Если государство воспринимается как случайная и даже в паразитическая структура, которую в лучшем случае нанимают (или не нанимают), а сами "свободнокультурники" исповедуют главенство себя над обществом, то с точки зрения биологического — системного — подхода такая группа занимает место новообразования разной степени злокачественности.
Как "свободнокультурники" предполагают своё существование без государства (или с наёмным государством), мне не очень понятно ...
Наёмное, означает наличие выбора. Следовательно, кто-то должен сначала создать эти государства, а потом "свободнокуьтурник" будет выбирать в каком из них на данный момент ему удобно. Вроде как в гостиницу заехать. Предположим, что обеспечение и охрану берут на себя владельцы государства-гостиницы. А чем будет "свбоднокультурник" платить за услуги?
 uhum_buheev: Американская
декларация независимости глаголит: Мы исходим из той самоочевидной
истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом
определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся
жизнь, свобода и стремление к счастью. Какие-нибудь античные греки
посчитали бы это сущим варварством. Стремление к счастью — это для
рабов, женщин и детей. Для гражданина это недостойно, он должен
делать что должно для семьи, рода и родного полиса. Как заведено
прошлыми поколениями ради поколений которые придут на смену.
Испокон веков человеческая культура была родовой.
uhum_buheev: Американская
декларация независимости глаголит: Мы исходим из той самоочевидной
истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом
определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся
жизнь, свобода и стремление к счастью. Какие-нибудь античные греки
посчитали бы это сущим варварством. Стремление к счастью — это для
рабов, женщин и детей. Для гражданина это недостойно, он должен
делать что должно для семьи, рода и родного полиса. Как заведено
прошлыми поколениями ради поколений которые придут на смену.
Испокон веков человеческая культура была родовой.Интересно, какой процент "свободнокультурных" реально представляет последствия освобождения культуры от тяжких вериг отсталого прошлого?
 swamp_lynx: Свободы сейчас мало,
достоинства и счастья тоже сильно меньше, чем в Средневековье.
Государство в эпоху модерна — это тяжёлая повинность, чтобы просто
выжить, не повторив судьбу индейцев, австралийских аборигенов и
других народов без государства, куда приходил Запад.
swamp_lynx: Свободы сейчас мало,
достоинства и счастья тоже сильно меньше, чем в Средневековье.
Государство в эпоху модерна — это тяжёлая повинность, чтобы просто
выжить, не повторив судьбу индейцев, австралийских аборигенов и
других народов без государства, куда приходил Запад.Самому приходится облачаться в одежды Запада, чтобы давать ему организованный отпор.
|
|
</> |

 Мукопросеиватель: чистота, лёгкость и качество теста
Мукопросеиватель: чистота, лёгкость и качество теста  Медведь.
Медведь.  Мы одних электронов. Фраза 62
Мы одних электронов. Фраза 62  Нарочно не придумаешь «министр Единства Украины сбежал с Украины» А у нас?!
Нарочно не придумаешь «министр Единства Украины сбежал с Украины» А у нас?!  Фото дня от Валерия Плотникова
Фото дня от Валерия Плотникова  Замечательные уличные снимки Димитрия Меллоса
Замечательные уличные снимки Димитрия Меллоса  О г...
О г...  5 уличных фокусов со спичечным коробком
5 уличных фокусов со спичечным коробком  "Borsalino" - самые крутые шляпы.«Борсалино»-гангстерский боевик с участием
"Borsalino" - самые крутые шляпы.«Борсалино»-гангстерский боевик с участием