Воспоминания крестьянина Ивана Юрова
 maiorova — 11.04.2018
Это мне на Пасху книгу подарили, в излюбленном мемуарном жанре.
Автор -- крестьянин Вологодской губернии, немало настранствовался,
воевал в Первую мировую и был в плену, стал коммунистом, устраивал
коммуны и колхозы, а пишет сии заметки уже на тихой должности
сторожа, со дня на день ожидая близкой смерти. Из этого может
казаться, что Иван Юров уж мафусаиловых лет достиг, а на самом деле
ему чуть-чуть за пятьдесят. И проживёт ещё двадцать четыре года.
Последние главы труда дописаны сыном его Леонидом Юровым, для
которого и была написана "история незадачливой жизни". Всего детей
было шестеро от двух жён: две дочери и сын умерли в
малолетстве, со старшим сыном оношения были испорчены, а младший
стал уголовником и пропал без вести. Комментарии принадлежат внуку,
тоже Ивану... Надеюсь, некоторые выписки интересующимся чтения не
испортят, а наоборот -- прорекламируют.
maiorova — 11.04.2018
Это мне на Пасху книгу подарили, в излюбленном мемуарном жанре.
Автор -- крестьянин Вологодской губернии, немало настранствовался,
воевал в Первую мировую и был в плену, стал коммунистом, устраивал
коммуны и колхозы, а пишет сии заметки уже на тихой должности
сторожа, со дня на день ожидая близкой смерти. Из этого может
казаться, что Иван Юров уж мафусаиловых лет достиг, а на самом деле
ему чуть-чуть за пятьдесят. И проживёт ещё двадцать четыре года.
Последние главы труда дописаны сыном его Леонидом Юровым, для
которого и была написана "история незадачливой жизни". Всего детей
было шестеро от двух жён: две дочери и сын умерли в
малолетстве, со старшим сыном оношения были испорчены, а младший
стал уголовником и пропал без вести. Комментарии принадлежат внуку,
тоже Ивану... Надеюсь, некоторые выписки интересующимся чтения не
испортят, а наоборот -- прорекламируют.* ...не знаю, мог ли отец мой чувствовать и радость, и горе. Для всех нас он был только страшилищем, а также и для матери. Мать была им запугана, колотил он её не только пьяный, но и трезвый, она всегда трепетала перед ним. Когда он был дома, все были подавлены, ни разговоров, ни шуток не было.
* Семья была большая, но трудоспособных было меньше, чем "объеди" -- так звали нас бабушка и другие за то, что мы ещё не могли работать, а ели.
Бабушка, когда мы просили есть, часто говаривала: "Ой, робята-робята, выедите вы у отцов брюшины".
* [В людях] Купил себе сапоги шагреневые за 6 рублей да пиджачок поношенный за два рубля, а потом стал всё проедать на пышках, не выдержал. Сначала я их совсем не покупал и не ел, всё берёг копеечку", а потом невтерпёж стало, очень уж белого захотелось: дома-то ведь я его не только не едал, но и не видал. Так и втянулся, как пьяница в водку, и стал предать своё жалованье почти целиком.
Живя впервые без материнского ухода, я не стирал бельё и поэтому обовшивел. Это меня очень мучило, приходилось уходить в уборную и бить обильно размножившихся насекомых. Никто меня не поучил, как стирать, да и негде было, и времени не было. Мои коллеги были из ближних деревень, им жёны приносили чистое бельё из дому, поэтому с ними такой беды не случалось.
* Когда невесту посадили ко мне, она шепнула: "Спасибо за то, что не дал причитать, а мне самой отказываться неудобно". И расскаазала, что пока она была просватанницей, ей пришлось не только причитать, но и "хлестаться", и что поэтому у неё сейчас болят локти и колени.
А "хлестаться" -- это вот что означает. К примеру, на пропивании невеста по обычаю должна, вытянувшись во весь рост, упасть с размаху на пол, на локти и колени. Сначала должна так "хлестнуться" отцу под причёты "Не пропивай-ко ты, батюшко, да меня молодёшеньку", потом матери и каждому родственнику. Затем, после пропиванья, она как просватанница, должна хлестнуться и попричитать каждой приходящей в дом соседке, вплоть до десятилетних девочек, а также каждому родственнику и знакомому, заходящему в их дом. "Хлестанье" и "причёты" сопровождают всё время смотров и сборов к венчанью, поэтому часто невеста избивала локти и колени в кровь, эти болячки и после свадьбы месяцами не проходили.
* Когда я и попы собирались идти с поповской квартиры в церковь, наш поп запел басом: "Исаия, ликуй, повели девку на ... ", на что я заметил: "Вот это, батя, тебе идёт". Гости его потупились, им было неловко... Когда же нам запели "Исаия, ликуй", мне стоило больших усилий, чтобы не расхохотаться.
* Кланяться и целовать гостей нашей стороны невесте, точнее, уже молодице, приходилось в продолжение свадьбы много раз. При этом кланяться нужно было обязательно в ноги, то есть лбом до пола. Кроме поклонов, обязательных по ритуалу, выдвигались предложения гостями для развлечения: "А ну-ко, пусть молодица подаст пива (или водки) и поклонится гостям". И молодие приходилось подавать и каждому в отдельности кланяться в ноги, обращаясь по соответствующему титулу: батюшко, матушка, дедюшка, тётушка, сватонько, сватьюшка и т.д.
* Теперь, в первые дни после свадьбы, я называю её [молодую жену], конечно, Авдотьей Павловной, но Дунька для меня как-то роднее и ближе. Мне бы хотелось называть её Дуней, но этого не позволял обычай, непреложный, как закон. У нас жену вообще было не принято называть по имени, оно заменялось обращениями вроде "эй, ты", "чуешь" и т.п. Если бы мы при людях стали называть друг друга Дуня, Ваня, то попали бы в нелепое, смешное положение. Если бы мы были служащими, нам ещё простили такую вольность, но мы были только "хресьяне" [крестьяне], и отгораживаться нам не позволили бы, извели бы насмешками, надавали обидных кличек.
Вот почему, когда мы перешли на будни, стал называть жену Дунькой. Это тоже было нововведением, приводившим окружающих в удивление: "Смотри, паре [звательный падеж от слова "парень"], ванька бабу-ту ещё по имени навеличивает!"
* До революции считалось похвальным для мужика покуражиться над своей бабой. Бывало, в праздники, как подвыпьют, каждый наперебой спешил похвалиться, как он заставил свою в ноги кланяться, сапоги снимать, а за то, что неумело снимала, он её пнул, и как она покатилась по полу, а потом опять кланялась в ноги и просила прощения. Или как он, возвращаясь пьяным домой, кричал "Жена, встречай!", а она, чтобы не прозевать, давно уже стояла на улице, хотя бы это было и в трескучий мороз, и, едва услыхав, бежала навстречу, всячески стараясь угодить, чтобы не получить побоев от своего покровителя.
После революции 1905 года этим уже не похвалялись, такое поведение общественным мнением не одобрялось. Даже в части опрятности революция наложила свой отпечаток. Если до неё полы в избах мыли два-три раза в год, обычно к Рождеству и Пасхе (а в Уфтюге так было и до Октября), то теперь считалось обязательным делать это каждую субботу.
* Отец был страшен не только в тот момент, когда бил свою жертву, а всё время. При нём не могли держать себя независимо и свободно, не чувствуя всё время его гнёта, все члены семьи, младшие по рангу и возрасту, в том числе его братья и сестра, как они потом рассказывали об этом сами. А когда он принимался бить, то бил чем попало, колом, поленом, палкой. Мать он однажды ударил колом по ногам так, что она упала как подкошенная. Дяди тоже рассказывали, что у них у кого рука, у кого нога болит от ударов братца.
* [В армии] Хвост очереди был на улице, а головой она уходила во двор дома. Я подошёл и спросил у солдат, за чем они стоят, выдают что-нибудь? Мне ответили, что очередь стоит к б...ям. Ответ показался мне настолько диким, что я опешил, отвернулся и пошёл прочь, чувствуя, что покраснел до ушей.
Когда я вернулся на ночлег, то услыхал, что многие из нашей роты там были. И они рассказывали об этом так просто, как будто они сходили пообедать.
*Среди солдат упорно держался слух, что будто бы царь сказал: "Вы, господа офицеры, берегите себя, а солдат не жалейте, этого навоза у нас хватит".
* [Впечатления плена, к бауэрам попал] В доме пять комнат: каждая пара -- муж и жена -- у них в Германии спят в отдельной комнате. Когда их сын вернулся из России, то смеясь рассказывал, что у нас вся семья, будь в ней хоть три женатых брата, спит в одной избе и прямо на полу. Когда я однажды пошутил, почему он не привёз себе из России жену, он ответил: у вас, говорит, девицы вшивые, они по праздникам тем и занимаются, что с ножом в руках бьют друг у друга вшей. К стыду моему, я не мог этого отрицать.
* А свесь [свояченица]-та, паре, у тебя не совсем баско сделала -- двоих рожала, пока мужик-от был на войне да в плену. С Васькой Паншонком связалась. Тот вор-от, пока Полевёнка-то не было, дак всё у ие и изживал, и роботу всю заодно робили. Первое-то брюхо выстегнула [то есть сделала аборт], а другово-то, видно, не могла, принесла живого, дак взяла удавила. Довго робёнок-от на козлах висивсе [лежал непохороненный в ожидании следствия], наши деревенцы караулили, да с револючией-то как всё прошло, и суда не было. Топере Полевёнок-от вышел из плену-ту, да всё скандалят. Она ведь, сволочь, не поддаётсе Полевёнку-ту. Сам ведь ты, говорит, пошов на войну-ту дак наказывав Паншонку-ту: "Не оставлей здись, Василий Панфилович, бабу-ту у меня". Вот он и не оставив..."
* Но случались в работе и неудачи. Тогда я рвал и метал, сходил с ума, орал, как сумасшедший, и... дрался, колотил жену и детей.
Однажды -- не помню, по какому поводу, я ударил Федьку граблями так, что переломилось грабелище. Это было зимой, ударил я его на съезде [настил у дверей сарая] -- должно быть, собирались за сеном ехать. Он, бедняжка, тогда и плакать не смел, зная, что я от этого прихожу в ещё большее бешенство.
* Я почти с первых же недель стал давать ей [работнице] понять о своих намерениях Она однажды даже сказала жене, что ей жить стало у нас нельзя, так как, мол, Иван вот какие делает предложения. Жена её же отругала: как тебе говорит, не стыдно заводить такие сплетни, мой муж не такой, он никогда не позволит себе этого. И я продолжал осаду.
Ольга не была красивой, но и не была отталкивающей. Привлекали меня в ней её молодость (ей шёл 22-й год), простота и наивность характера, её всегда весёлое настроение, которым она заражала окружающих. Потом, когда она, почувствовав себя беременной, поехала от нас в Устюг, чтобы там где-нибудь устроиться, о неё даже жена грустила и желала, чтобы она не смогла устроиться в Устюге и вынуждена была вернуться к нам.
* Ольга иногда говорила: "А что будет, если я забеременею?" Я, напуская на себя безразличие, успокаивал: да ничего, мол, не будет, ну, построю тебе избёнку, куплю швейную машину, научу тебя шить -- вот и будешь жить и содержать своего ребёнка. Втайне же надеялся, что авось беременности не будет.
* [После того, как сын и дочь в две недели умерли от пневмонии] В коммуне мне оставаться было больше невозможно. Она теперь вызывала у меня ненависть, как бы отнявшая у меня сразу двух детей. К тому же соседи ежедневно бередили наши раны, говоря: "Вот вам какое счастье-то, прибрал у вас господь ребят-то". Заглазно они зло смеялись над тем, что мы так убиваемся по детям: "Подумаешь, какие благородные, уж сколько дней ревят о своих опаздёрках [сейчас тоже так ругаются, это значит сорванец]".
|
|
</> |

 Открываем интернет-магазин: как организовать доставку товаров
Открываем интернет-магазин: как организовать доставку товаров  Ведьмин Новый год
Ведьмин Новый год  Дуранта – каскадные гроздья цветов и ягод
Дуранта – каскадные гроздья цветов и ягод  Про банановое изобилие в США
Про банановое изобилие в США  А точно нужно русский Бахмут снова называть Артёмовск?
А точно нужно русский Бахмут снова называть Артёмовск? 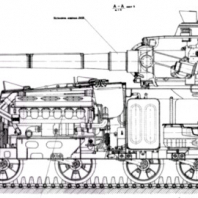 Из истории «Спрута»
Из истории «Спрута»  Тщательно отобранные
Тщательно отобранные  Святейшее святых
Святейшее святых  Мандариновое настроение и Праздничные заморочки
Мандариновое настроение и Праздничные заморочки 



