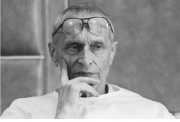"Так власть приобщала к своему палачеству и людей, не имеющих к нему никакой
 ru_polit — 16.10.2021
ru_polit — 16.10.2021
"Английский публицист Малькольм Магеридж, в прошлом левый социалист
и поклонник «советского эксперимента», но потом, после близкого
знакомства с ним (был в годы первой пятилетки московским
корреспондентом лейбористской газеты), ставший его убежденным
противником, вспоминает о таком знаменательном эпизоде начала
тридцатых. Поезд, где был вагон с группой английских туристов,
включавшей и известную английскую социалистку отнюдь не крайнего
толка Беатриссу Вебб и самого Магериджа, на какой-то большой
станции оказался рядом с эшелоном раскулаченных.
В зарешеченных окошках теплушек появились изможденные лица
несчастных баб и худенькие ручки детей. И те, и другие молили о
хлебе. Английские туристы были поражены, многие, естественно,
возмущены. Но больше всех возмущалась умеренная социалистка Вебб.
Но чем была возмущена и даже оскорблена ее горячая умеренность?
Головотяпством и тупостью железнодорожных властей, поставивших этот
эшелон рядом с вагоном неподготовленных!) английских туристов,
которые из-за этого (по-видимому, мелкого в представлении г-жи
Вебб) эпизода могли составить себе неправильное представление о
«великих переменах», совершавшихся тогда в СССР, да и о социализме
вообще.
Судя по всему, сама г-жа Вебб к тому времени была уже достаточно
подготовлена для приятия подобных впечатлений, и на нее саму
подобный эпизод повлиять не мог. И если она поделилась потом этим
своим возмущением с кем-либо из «вождей» (а почему бы ей этого и не
сделать, раз она обнаружила такое вопиющее безобразие?), то ее
возмущение наверняка встретило сочувствие и понимание, и в
результате начальник этой станции (хоть нигде на земле в
обязанности начальника станции не входит учет вида, открывающегося
из окон вагона с туристами) поплатился за ее энтузиазм головой.
Поражает гармоническое усвоение этой «европеянкой» азиатской,
казалось бы, логики большевизма и сталинского аппарата. Нет,
видимо, таких жертв, каких определенного сорта идеалисты не
принесли бы на алтарь сохранения и торжества своего
идеализма.
А жертвы эти повсюду меня окружали, повсюду меня окружала смерть,
хоть я и не знал, что это такое. Но однажды я с ней столкнулся
вплотную. Это произошло при следующих бытовых обстоятельствах… В
нашу дверь постучался дядя, хозяин дома, и попросил отца срочно
помочь ему. В «подъезде» (так в довоенном Киеве называли
подворотни) нашего дома расположилась какая-то нищая женщина, может
быть, даже больная, а это строго запрещено. Милиция за это строго
преследует — особенно хозяев собственных домов. Так не может ли
отец, как человек более молодой и лучше говорящий по-русски, сойти
и сказать этой женщине, что здесь лежать нельзя, чтоб она уходила.
Отцу неудобно было отказать своему родственнику, и он согласился. Я
увязался за отцом. У ворот нашего дома уже собралась небольшая
толпа. А с другой стороны ворот, в подворотне, прямо на булыжнике
лежала, скрючившись, опухшая и ко всему безучастная женщина
неопределенного возраста в грязных лохмотьях. Отец дрогнувшим
голосом сказал, что здесь лежать нельзя и надо уходить. Она не
реагировала. Кто-то в толпе сказал, что она, видимо, еврейка и
по-русски не понимает (в те времена далеко не все евреи говорили
по-русски). Отец перешел на идиш. Она открыла глаза, но тут же в
бессилье их закрыла опять. Памятуя о суровой власти
рабоче-крестьянской милиции, отец все же попытался растормошить эту
женщину, чтоб она ушла. Так власть приобщала к своему палачеству и
людей, не имеющих к нему никакой склонности, а к ней никакого
отношения.
— Да вы что, не видите, что она умирает? — раздался чей-то
возмущенный голос. Отец опешил! Через несколько секунд женщина
вдруг дернулась и затихла. Человека не стало. В таком обличье
предстала передо мной впервые смерть.
Дальше было еще страшней. Позвонили в милицию, и довольно скоро — я
видел это в окно — перед домом остановился грузовик, накрытый
брезентом. Выскочили два молодца, ловким привычным движением
отвернули брезент, и глазам открылся слой трупов, почти скелетов.
Стало ясно, что под ним перекрытый брезентом второй, третий —
несколько слоев. Труп из нашего подъезда вынесли, быстро забросили
наверх, накрыли брезентом, сели в кабину и уехали. Будничность этой
картины поразила меня. Теперь я знал уже, что это за грузовики,
аккуратно накрытые брезентом, — я их видел и раньше, но не думал о
них — шныряют по городу. Так предстало передо мной впервые то
страшное, тлетворное отношение к смерти, а вернее, к жизни
человека, которое всегда господствовало в советском бытии, но редко
проявляло себя с такой откровенностью.
Приятно было бы иметь сегодня право сказать, что с тех пор я
возненавидел этот враждебный человеку строй, понял его звериную
природу. Но такого права у меня нет, ибо не возненавидел и не
понял. Наоборот, подсознательно лишний раз убедился, что такое
случается только с какими-то другими, в чем-то не такими, как надо,
людьми, а не с такими, как я. Ведь в моих книжках сознательные
пионеры, живущие повсюду в нашей стране (но почему-то не в нашем и
не в соседних дворах — так мне не повезло), продолжали трубить в
горны, дружно собирать утильсырье и металлолом в помощь партии,
бороться с кулаками и вообще жить очень интересной и значительной
жизнью.
Была (где-то рядом, хоть я ее не видел) настоящая жизнь, и какая-то
неопрятная женщина из подворотни и грузовик, который ее увез, не
могли всего этого затмить и перевесить, Проще было поверить, что
это необходимые отходы этой «большой» жизни, на что не следовало
обращать внимания. Конечно, все это формулы более позднего времени,
но в чувстве именно так причудливо смешалось самоощущение «мальчика
из приличной семьи» и поклонника пионерской романтики. С тех пор
запал в мою душу и жил в ней, во многом руководя мной, —
подспудный, неосознанный страх попасть в категорию этих «других», с
которыми можно так обращаться, которых не жалко. И продолжалось это
до моего полного внутреннего освобождения от большевизма, до 1957
года.
То, что женщина, умершая в нашей подворотне, оказалась еврейкой, —
чистая случайность, может быть, даже исключение. Но то, что я,
мальчик, воспитывавшийся в тогда еще довольно замкнутой и
традиционной еврейской среде, никуда еще за ее пределы не
выходивший, с легкостью отнес и ее к категории этих «других,
которых не жалко», которых жалеть стыдно, — факт вполне типичный и
знаменательный. Это забвение ближнего во имя сохранения цельности
мироощущения и было самым тяжким грехом жизни нескольких поколений
нашей интеллигенции любого социального и национального
происхождения — нашим, выражаясь словами Генриха Белля, «причастием
буйволу». Отец мой — в отличие от меня в юности и г-жи Вебб в
зрелости — этого «причастия» не принимал никогда, какой бы красивой
ни выглядела в его глазах идея.
Эта противоестественная полоса отчуждения вокруг страдания,
создаваемая сознательно и не свойственная ни русскому, ни какому бы
то ни было другому духу, — одно из страшнейших достижений
большевизма. Потом оно обратилось своим острием против самих его
изобретателей, но вины это с них не сняло".
Из книги воспоминаний поэта Наума Коржавина (1925-2018)
"В соблазнах кровавой эпохи"


 ru_polit — 16.10.2021
ru_polit — 16.10.2021



 Накрутка друзей в Одноклассниках: как увеличить активность без риска
Накрутка друзей в Одноклассниках: как увеличить активность без риска  Почему английские слова похожи на русские | История индоевропейских языков
Почему английские слова похожи на русские | История индоевропейских языков  С чем связан феномен "повторяемости катастрофических событий" древности.
С чем связан феномен "повторяемости катастрофических событий" древности.  В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии
В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии  Странная вилка-заглушка
Странная вилка-заглушка  Пятничная вакханалия
Пятничная вакханалия  Ленинградское шоссе в Зеленограде: "дорожная диета" для общей пользы
Ленинградское шоссе в Зеленограде: "дорожная диета" для общей пользы  Пятничный котик сегодня мишка
Пятничный котик сегодня мишка  Обед
Обед