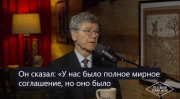О знании, информированности и культурных императивах: педагогический аспект
 edgar_leitan — 03.11.2012
edgar_leitan — 03.11.2012

В ЖЖ моих френдов banshur69 и philtrius разгорелась дискуссия о знании и связанных с этим темах. В качестве затравки: ЗДЕСЬ, потом последовало ДОБАВЛЕНИЕ, что вызвало реакцию в виде дискуссий уже ТУТ. Кажется, были ещё какие-то реакции в каких-то других местах. Тема для меня немного болезненная, поскольку я считаю себя человеком в основном невежественным. Пусть и не лишённым некоторых потуг к знанию, но слишком живо осознающим здесь свои границы.
В мои школьные годы в Питере у нас был некий учитель некоего иностранного языка (очень хороший учитель), который любил жёстко язвить по поводу невежества школьников во многих областях, относящихся к общей эрудированности. Я помню, как всё время смущался по поводу того, что нечто мне незнакомо из мировой литературы или балета. Центром моих интересов в школьные годы были естественные науки, а также изобразительное искусство (я окончил и детскую художественную школу; для научной работы я ходил в биологический кружок и в научную лабораторию — с 12 лет). Как я понял уже, когда поднакопился педагогический опыт (работа в гимназиях и университетах, а также частное преподавание), подобный культурный снобизм, старающийся вызвать в другом человеке стыд — не самый лучший метод, чтобы привить молодым людям интерес к возрастанию в знании.
Такое "педагогическое" вызывание преподавателем в студентах или учителем в школьниках стыда своим невежеством, чаще всего с потерей лица воспитуемого субъекта, подобно традиционной же русской порке детей якобы в воспитательных целях. Границы поведения это битьё ребёнку, может быть, и укажет, но останется травмой на всю жизнь.
Мой двоюродный брат, которого самого воспитывали в Риге вполне традиционно, не чураясь ни ремешка, ни тумаков, уже давно живущий в Скандинавии, своих детей воспитывает, физически к ним не прикасаясь не то чтобы ремнём или тяжёлой рукой, — жёстким словом! И вырастают эти дети (девочка 11 лет и 16-летний юноша), по моим внимательным наблюдениям, достойными, хорошими, доброжелательными и вежливыми людьми.
Русской культуре вообще свойственна ориентированность на охват бесконечности. Только это своя, особая, русская культурная бесконечность, пределы которой положены границами родной речи и всем, что на русском языке создано или переведено, а также в любом виде русской культурой оприходовано.
Моя личная начитанность, скажем, в санскритской или тибетской, или той же мне не менее родной латышской или литовской литературе, или в почти что родной уже немецкой, или в любой другой, европейской или восточной [вся эта "начитанность", разумеется, крайне условна и порой убога], русской культурой в качестве "культурности" никак не учитывается, если нет соответствующих произведений, переведённых на русский. Если это явление и принимается во внимание, то разве только в качестве чуждой экзотики или, в лучшем случае, компетентности в своих не менее экзотических науках, малоинтересных даже большинству из общеобразованных гуманитариев.
Зато характерно, что субъекта, не ухватившего с ходу аллюзии на некое произведение, к примеру, Платонова, и на имя-прозвище "Счастливая Москва", в среде русской интеллигенции готовы записать в некультурные. Все эти классификации очень двусмысленны, поскольку предполагают, что имеется некий чётко очерченный, общий и для всех единый канон "культурности". В культуре русской предполагается, что культурный человек должен знать вообще всё на свете, ко всему иметь интерес, а если такового нет, то развивать эту склонность.
Русский интеллигент, желающий проявить свою "культурность" и "вселенскую отзывчивость", будет цитировать Шекспира в переводе Пастернака или Лозинского, Гомера в переводе Гнедича, Гёте опять же в переводе того же Лозинского, или Кузмина, или Брюсова, Коран в переводе Крачковского, китайских поэтов в переводе В. М. Алексеева. Ну и так далее. И будут раздаваться стенания: "Ах, вы не знаете последнего перевода...такого-то? Вы совершенно некультурный человек!" При этом российский интеллигент или интеллектуал, скорее всего, будет иметь самое отдалённое представление о моделях древнегреческого словоизменения (если он не филолог-классик; не говоря уже об умении адекватно читать и и разуметь Гомера или там Платона, или Августина в оригиналах), и лишь с большим трудом понимать произведения Шекспира или Диккенса по-английски, — это в лучшем случае.
Ваш покорнейший — субъект достаточно любознательный по своей природе. Услышав про почти бессмертных голых землекопов, я тут же о них поинтересовался. Где? В интернете, разумеется. Википедия и иные странички как раз и существуют для подобного — чтоб удовлетворить поверхностное любопытство. Чтобы информировать.
Однако я бы не стал смешивать информированность со знанием. Зачастую нашей хвалёной общекультурной эрудированности недостаёт глубины. Многие наши знания нередко даже интеллектуально не прожиты, как события ума, не говоря уже об "экзистенциальной" переваренности и интегрированности. Результат — гуманитарный всезнайка А. Вассерман, берущийся с помощью математической теоремы "бесспорно" доказывать несуществование Бога и знающий ответы вообще на все вопросы. Только нужны ли такие ответы?..
Человек, обладающий реальными, глубоко усвоенными знаниями по какому-либо ограниченному ряду предметов, очень остро осознаёт прежде всего своё общее незнание, невежество. Он поостережётся пускаться в дискуссии в том, что лишь в самом общем виде себе представляет. Он осознаёт границы своего знания, а также границы своих возможностей. Не за отсутствием интереса, а за смирением, вытекающим из знания конечности и смертности, в том числе и себя самого, а также всепожирающего огня времени.
Для удовлетворения моего любопытства про бесшерстных зверьков-грызунов, упомянутых в Журнале моего френда, сведений из Википедии, в общем, хватило. Но когда я заглядываю в ту же Википедию в областях, где моё знание чуточку превосходит общую эрудированность: в статьях о санскрите или ведийском языке, или о буддийской философии, то тут впору за голову хвататься. Это к вопросу о надёжности всяких интернет-энцикопедий в качестве "достоверного источника знания".
Мне очень интересно беседовать с людьми, являющимися в своих областях знаний и умений признанными знатоками: от профессоров-гуманитариев до хороших ремесленников, с искусство-, музыко- и театроведами... Но, увы, мне кажутся смешными потуги российского интеллигента обо всём иметь своё мнение и уметь с апломбом, уверенно рассуждать. Лишь бы он был сопричтён к сонму культурных людей.
Конечно, я имею в виду не конкретно своих многопочтенных и высокоучёных френдов. Здесь — лишь попытка обобщить ряд своих наблюдений, в виде реакции на предмет дискуссии.
Человек, учащийся размышлять, имеющий к этому навыкновение и любовь, а также кое-что действительно знающий, характеризуется тем, что он скорее будет делать осторожные, неуверенные оговорки, опасаясь слишком общих, безапелляционных суждений.
В этом смысле российский интеллигент — существо прежде всего общинное, а скорее всего, и коллективистское. Самое страшное для него — это быть изгнанным из своей корпорации, стать за какое-либо нарушение всех хитросплетений неписанных нравственных и культурных нормативов в своей среде "нерукопожатным". Оборотной стороной этой постоянной оглядки на других, безостановочного тягостного сравнения с другими (коллегами, друзьями, врагами) является укоренившаяся внутренняя зависимость от чужих мнений и суждений. То есть многое делается "страха ради иудейска", а после случайного выпадения из корсета ожиданий ответ один: "Не забудем, не простим!"
Пролистывая иногда ЖЖ некоторых российских гуманитариев, я то и дело встречаю пренебрежительные или даже ругательные отзывы о коллегах и об опубликованных результатах их работ. Какие-то там "рейтинги российских учёных" по специальностям, раздача порядковых номеров по "значимости" и т. п. То тут, то там мелькают лихие определения: "Бездарь, дурак, сволочь, приспособленец"... Особенно это характерно, по моим неблюдениям, для отзывов считающих себя поэтами и переводчиками. Не знаю, в чём тут дело. В примитовной ли ревности к сотоварищам по творческому или научному цеху, в человеческой надменности, которую приносит порой культурная переразвитость, в личной хамоватости характера?
Мне как преподавателю тоже попадаются самые разные студенты. Но я считаю, что главное — не указать на невежество молодых людей, из которых за их молодостью может получиться ещё всё что угодно, даже если они по случаю какой-нибудь студенческого сабантуйчика и явились на лекцию в сонном состоянии или покурили травки. Хороший педагог должен попытаться заинтересовать, передавая собственный восторг своим предметом. Не стыд за то, что нечто не знаешь, должен быть ведущим ощущением для студентов, а радость оттого, что есть ещё столько непознанного и интересного. И что есть ещё молодость, чтоб всё это узнавать.
И ещё, в порядке полемики с моим френдом и другом banshur69, считающим, что университетский учёный-лектор должен быть весь в сосредоточенности на предмете своей науки, не замечая перед собой аудитории и человеческих свойств своих слушателей. Я знаю или слышал о великолепных в своей области учёных, совершенно не умевших сколько-нибудь внятно донести до молодых студентов то, что они брались преподавать. Например, одним из таких зубров востоковедения был крупный итальянский тибетолог Джузеппе Туччи, бывший, по устным отзывам его слушавших кое-кого из моих учителей, ужасным, невыносимым лектором. Именно потому, что студенты из его лекторства как-то полностью исключались; оставались интересные ему как учёному детали предмета, для начинающих студентов в силу множества этих деталей, сложности предмета и отсутствия чёткой общей картины совершенно неохватные.
Ещё раз об интересе ко всему на свете. Иногда ради повышения научной компетентности в каких-то своих более конкретных областях приходится эти вселенские интересы жёстко держать в узде. Например, я стараюсь постоянно читать (изучать) что-то для меня новое на санскрите и, в какой-то степени, на тибетском. Произведения самых разных жанров на языках оригиналов, — я даже не имею в виду научную литературу по предметам. Это последнее разумеется само собой. Конца и края этому чтению, выявляющему собственную несостоятельность, не видно. Если, следуя внешним императивам "общей культурности", ещё и стараться знать все новые произведения (русской? или какой?) литературы, ходить на все театральные постановки, посещать все выставки, быть в курсе всего, то и знатоком собственных предметов будешь весьма посредственным. Ограничителем моего любопытства и тяги к постоянному повышению своего общекультурного уровня будет фактор времени и осознание себя смертным существом, чьё существование по сравнению с бесконечностию знаний подобно комариному.
В этом разница между хорошим западным специалистом-предметником, не претендующим на роль образцового воплощения культурных добродетелей и носителя всеохватной энциклопедичности, и российским интеллигентом-гуманитарием, который, подобно персонажу известного анeкдота, богаче самого царя. Поскольку в свободное от царствования время ещё и подшивает.
...............................................................................
[На фото -- экскурсия с кафедральными коллегами в Национальную библиотеку в Вене, в отдел восточных рукописей]

 Интернет и ТВ в одном пакете: телекоммуникационные решения для всех
Интернет и ТВ в одном пакете: телекоммуникационные решения для всех  Пухновости
Пухновости 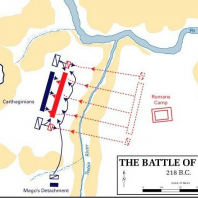 18 декабря ● Образована "Служба внешней разведки в России" и "День работников
18 декабря ● Образована "Служба внешней разведки в России" и "День работников  Реакция в Индии на белую девушку блондинку
Реакция в Индии на белую девушку блондинку  Пермь. Сибирская улица и Компрос
Пермь. Сибирская улица и Компрос  Вам кофе в постель или чашку?
Вам кофе в постель или чашку?  Академия художеств . December
Академия художеств . December  В 2024 году в Кузбассе в оборот вернули более 20 тысяч га заброшенных земель
В 2024 году в Кузбассе в оборот вернули более 20 тысяч га заброшенных земель  Old Auto Блохер Mode on
Old Auto Блохер Mode on