
О писательских стратегиях
 maks_dragon — 14.04.2014
maks_dragon — 14.04.2014

Я здесь никакой неудачи не вижу.
Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись.
Я ни от чего, ни от кого не завишу.
Встань, делай как я, ни от кого не завись!
И, что бы ни плёл, куда бы ни вёл воевода,
Жди, сколько воды, сколько беды утечёт.
Знай, всё победят только лишь честь и свобода.
Да, только они, всё остальное - не в счёт...
Михаил Щербаков
Каждый выбирает для себя...
Юрий Левитанский
Для начала сравним два начала. В смысле – два начала двух литературных произведений, написанных плюс-минус в одно и то же время писателями более-менее одних политических убеждений. Время это – двадцатые годы. Убеждения – приняли революцию семнадцатого. Оба – не из «новых», с отличным «старорежимным» образованием. Оба – с серьёзным жизненным и писательским опытом, оба воевали, оба – блистательного литературного таланта. Итак.
«Позднею осенью над Балтийским морем лохматая проседь туманов, разнузданные визги ветра и на черных шеренгах тяжелых валов летучие плюмажи рассыпчатой, ветром вздымаемой пены.
Позднею осенью (третью осень) по тяжелым валам бесшумно скользят плоские, серые, как туман, миноносцы, плюясь клубами сажи из склоненных назад толстых труб, рыскают в мутной зге шторма длинные низкие крейсера с погашенными огнями.
Позднею осенью и зимой над морем мечется неистовствующий, беснующийся, пахнущий кровью, тревожный ветер войны.
Ледяной липкий студень жадно облизывает борты стальных кораблей, днем и ночью следящих жесткими глазницами пушек за туманным западом, пронизывающих черноту ночей пламенными ударами прожекторов.
В наглухо запертом вражескими минами водоеме беспокойно мечется вместе с ветром обреченный флот.
В наглухо запертых броневых мышеловках мечутся в трехлетней тоске обезумелые люди.
Осень… Ветер… Смятение…»
А теперь – второе:
«Жил в одном городе на Большой Проломной улице свободный художник — тапер Аполлон Семенович, по фамилии Перепенчук.
Фамилия эта — Перепенчук — встречается в России не часто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепенчуке, о фельдшере из городского приемного покоя, тем более, что оба они жили в одно время и на одной и той же улице, и по характеру не то чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались.
Но только фельдшер Федор Перепенчук помер значительно пораньше, да и, вернее, не сам помер, не своей то есть смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до IV конгресса.
Об этом газеты своевременно трубили: покончил, дескать, с собой, при исполнении служебного долга, фельдшер из городского приемного покоя, Федор Перепенчук, причина — разочарование в жизни…
Этакую, правда, нелепость могут досужие репортеришки написать. Разочарование в жизни… Федор Перепенчук и разочарование в жизни… Ах, какие это пустяки. Какая несусветная околесица!
Это правда: поверхностно размышляя, точно, жил, жил человек, задумывался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, на первый взгляд — разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепенчука, не сказал бы таких пустяков».
Борис Лавренёв и Михаил Зощенко, ага. Не просто разница чувствуется – контраст. Кроме очень своеобразных стилей и неповторимого подхода к теме у каждого – принципиально отличающиеся способы обращения к аудитории. Зощенко и Лавренёв по-разному выбирают себе читателей.
По нынешним временам забавно звучит, да? Экие красавцы, читателей себе выбирают! Наши современники из кожи вон готовы вылезти для того, чтобы их читали ВСЕ. Целевая аудитория, по умолчанию, считается равной всему человечеству, писатель пытается угодить и поэту, и урке, и менеджеру, и бомжу, и подростку, и старику. Коммерческое чтиво прямо-таки на четвереньках перед читателем стоит, готовое на что угодно – только возьми, только купи, только прочти.
Так же ведут себя и пишущие в Сети. Ради расширения аудитории книжка приправляется завлекушками, вроде порнографии или чернухи – только обрати внимание. Виртуальная валюта – не деньги, а лайки, но и ради лайков пописушник, как вокзальная девица, готов ну на всё! Успех нынче равен в писательских глазах примерно богу, а под успехом нынче подразумевается не качество, а массовость.
Ну, более массовым чтением, чем этикетка на туалетном освежителе воздуха, ещё ни одна книга в истории человечества не была. Но народ стремится достичь, приближаясь к той этикетке и стилистикой, и глубиной мысли.
А в стародавние времена, когда люди ещё думали, прежде чем что-то написать, подход был совсем другим. Пишущим было очевидно, что всем придётся по душе только золотой червонец, люди разные – и совершенно бесполезно, гробя собственную работу, холуйствовать перед всеми читателями подряд. Писатель выбирал себе аудиторию продуманно, рассчитывая на определённый читательский круг. Маяковский не просто хотел к штыку приравнять перо – перо и равнялось штыку, как оружие, находя себе правильную цель.
И цели ставились изрядно разные. Порой – противоположные.
Посмотрим на цели Зощенко и Лавренёва.
Лавренёв писал для грамотных.
Он писал для людей новых убеждений, но старого подхода к языку. Для людей, получивших образование минимум в гимназиях, для людей, понимающих, что такое метафора и литературный образ, ценящих вольное дыхание строки, красоту художественного слова. Его книги могли читать его герои – Строев и Говоруха-Отрок; Марютка уже не осилила бы. Для Лавренёва Марютка была не читателем, а литературным персонажем.
Если вдруг кто-то не в курсе: Марютка – героиня повести Лавренёва «Сорок первый», красноармеец, бывшая батрачка, круглая сирота, почти неграмотная поэтесса. Мечтала опубликовать в революционной газете страстные стихи о классовой борьбе: «Ленин герой наш пролетарский, воздвигнем статуй твой на площаде, ты низвергнул дворец тот царский и стал ногою на труде». С белогвардейским поручиком Говорухой-Отроком её связала вынужденная робинзонада, неожиданная любовь и долгие мировоззренческие споры. Он же стал сорок первым в её личном снайперском счёте.
Но для Зощенко Марютка была не персонажем, а читателем.
Когда Зощенко послал в журнал свой первый литературный опыт, с латинской цитатой, в элегантном «декадентском» стиле, ему ответили, что читателям нужен ржаной хлеб, а не сыр бри – этот критический отзыв девизом всего его творчества. Он решил, что образованным-грамотным и так есть что почитать: к их услугам вся мировая литература, в конце концов. А вот Марютка, полуграмотная, еле разбирающая слепые газетные строки, пытающаяся сочинять про «статуй на площаде», вдохновлённая новым временем – та самая улица, которая «корчится безъязыкая». Классическую литературу улица «ниасилит» - к ней надо обращаться особенным образом. Зощенко, серьёзно думая о своём неопытном, безграмотном читателе, перешёл на язык улицы – помогая улице создать новый язык. Он творил принципиально новую литературу, используя удивительный языковой сплав, «уличную плазму», обретающую в умелых руках яркость и изобразительную силу – а в сборнике «Письма к писателю» изучал первые литературные упражнения недавних неграмотных, таких же страстных, наивных и неумелых самодеятельных «поэтов», как Марютка. Предельная примитивность формы не снижала литературного класса блистательных текстов. Этим приёмом впоследствии пользовались и писатели, и поэты, часто – с ошеломляющим успехом.
Так выглядят две основных литературных стратегии. Назовём их условно «зощенковской» и «лавренёвской». Зощенковская – это когда писатель пытается «быть понятным каждому идиоту», но при этом держит литературный уровень. Текст в идеале должен выглядеть простым-простым – и иметь несколько уровней понимания. «Идиот» видит «сУжет», а настоящий читатель – подтекст; всё идёт дивно.
А лавренёвская – это когда «идиоты» отметаются в первых же строчках. Писатель прямо-таки поганой метлой их гонит, сооружает такой тест на уровень IQ прямо в тексте. Цветаева в статье «Поэт о критике» эпиграфом выставила слова Монтеня: «Вспомните того человека, которого спросили, зачем он так усердствует в своем искусстве, которое никто не может понять. «С меня довольно немногих, - ответил он - С меня довольно одного. С меня довольно и ни одного»». Это отличное определение подхода: писатель создаёт вещь, не ожидая ни успеха, ни всей прочей мирской суеты – вещь ради вещи. В процессе создания книги он думает лишь о безупречности формы, о точности слов, о глубине смысла. И книга, рождённая таким образом, порой может найти читателей лишь после смерти своего создателя – гений часто опережает время.
Сама Цветаева, к слову, именно той самой породы. Ни перед критикой, ни перед читателями никакого пиетета не чувствовала. Была феноменально бескорыстна. Гений, ни от кого не зависела, кроме собственной музы-демона – в отличие, скажем, от весьма зависимой и от аудитории, и от времени, и от чужого мнения Ахматовой, чьё имя у среднего читателя выскакивает на автопилоте при разговоре о Цветаевой. Ассоциация по смежности – но совершенно несмежные творческие методы.
Большинство стихотворений Ахматовой «понятно всем», на том Анна Андреевна и стояла, оттого и учат до сих пор наизусть. Большинство стихотворений Цветаевой понятно тем, кто способен воспринимать её исключительно своеобразную поэтическую речь. За то Цветаева и была травима и боготворима.
Страстным приверженцем «стратегии Лавренёва», даже если по всем известному снобизму своему он Лавренёва и не читал – был Набоков. Он себе читателей выбирал придирчиво, чтобы непременно внимательные, терпеливые, с отточенным интеллектом. На пути всех остальных выстраивал начало, напоминающее неопытному читателю забор, обмотанный колючей проволокой: «Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192… года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы – в силу оригинальной честности нашей литературы – не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией. На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора, а по всему его боку шло название перевозчичьей фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих (включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской: недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение. Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков чем белья), стояли две особы. Мужчина, облаченный в зелено-бурое войлочное пальто, слегка оживляемое ветром, был высокий, густобровый старик с сединой в бороде и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувственно держал холодный, полуоблетевший сигарный окурок. Женщина, коренастая и немолодая, с кривыми ногами и довольно красивым лжекитайским лицом, одета была в каракулевый жакет; ветер, обогнув ее, пахнул неплохими, но затхловатыми духами. Оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собирались обвесить, наблюдали за тем, как трое красновыйных молодцов в синих фартуках одолевали их обстановку». Либо ты упиваешься высочайшим классом литературной работы – либо позволь себе хилять отсюда, не для тебя писано.
Один и тот же писатель может менять стратегии в зависимости от потребностей самой книги. Скажем, «Тайна Третьей Планеты» и «Смерть этажом ниже» написаны словно разными людьми, многие не верят, что до крови царапающий душу роман-катастрофу написал милый и добрый сказочник Булычёв. Булычёв – вообще образец правильного отношения к аудитории: сравните, как он пишет для детей и как для взрослых. Предполагается, что юные его читатели, обожатели Алисы Селезнёвой, скорее всего, не смогут одолеть «Похищение чародея», пока не подрастут – и это означает, что Булычёв отлично чувствует, к какому кругу в каких словах следует обращаться.
Неизвестно, следование какой стратегии требует большей самоотверженности от писателя. В «лавренёвском» варианте – огребёшь неизбежные обвинения в снобизме и пренебрежении «широкими массами», что не только в советские, но и в нынешние времена звучит страшным обвинением. В «зощенковском» - писателя обычно обвиняют в примитивности, убогом языке, дешёвых идейках: за нарочито простой формой «идиоты» не в состоянии разглядеть несколько пластов скрытых смыслов.
Собственно, всё это отразилось и на литературных судьбах процитированных писателей. Восхитительный, светлейший, тончайший Лавренёв незаслуженно забыт. Гениальный Зощенко воспринимается как автор проходных хохмочек – притом, что «массовый читатель» частенько ощущает подтексты и вообще избегает его читать, просто из страха что-нибудь почувствовать. Нет, шарахаются от хороших книг не все. Но многие – сейчас тяжёлое время для настоящей литературы.
Ни та, ни другая стратегия равно нынче не используется пописывающим большинством. На лавренёвскую не хватает ни храбрости, ни гордости, ни уровня мастерства – «надо писать так, чтобы сразу стопяццот лайков поставили!» Зощенковская предусматривает не то, что простота хуже воровства, а то, что можно говорить просто о сложных вещах – и наркоманы чтива моментально просекают, что их надули. Текст только притворяется простым, а на самом деле – сложен, если не для чтения, то эмоционально.
Массовая публика не хочет, чтобы было эмоционально тяжело. Она просто скандирует хором: «Лег-че! Лег-че!» - злясь на любые сложности и тех, кто осмеливается о чём-то рассуждать. Поэтому те, кто под публику прогибается, облегчают и облегчают ей жизнь. Горькую конфету, даже в самом пёстром фантике, массовая публика норовит выплюнуть – она хочет сахара и чтобы ничто не мешало развлекаться. А мысли мешают.
Массовые писуны – грех их писателями называть – признают одну-единственную стратегию овладения аудиторией: следование за её желаниями, довольно низкими, чего уж там. Ради того самого «успеха» – больше, вроде бы, ничего и не нужно – штампуются и штампуются картонные книжки с затёртыми до дыр сюжетными и стилистическими ходами. Ради «успеха» штампуются порнографические фанфики и псевдопатриотические боевики. Если целевая аудитория плюнула и обругала, книга автоматически перекидывается в другую целевую аудиторию. Скажем, «фэнтези» перекидывается в «любовный роман», хотя фанфик, который швыряют туда-сюда – ни то и ни другое. Совсем уж непригодные ни на что жуткие опусы называют «литературой для подростков», подразумевая, что подростки могут жрать любую дрянь, им всё равно. Тени великолепных писателей, уважавших своих самых юных читателей и особенно тщательно работавших над книгами для маленьких – умываются слезами на другом берегу Стикса.
Дело, я подозреваю, в основном, в том, что писуны вместе с издателями дружно считают, что «публика – дура». Целевая аудитория громадного большинства писанины, соответственно – петые дураки. Но это не слишком удачный выбор. Во-первых, дураков меньше, чем считают писуны и их кураторы. Во-вторых, дураки предпочитают книгам телевизор. В-третьих, дураки, конечно, упрямы и агрессивны, но непостоянны. Вот толпа дураков считает кумиром Васю Пупкина, который тут же воображает себя новым классиком – а вот Ваня Пипкин предложил новую фигню, которая привлекает внимание, и на волне уже он, а Пупкин прочно забыт. Писанину для дураков впору издавать в рулонах – всё равно её прочтут и используют, к тому же тогда целевая аудитория писанины расширится до идеальной. О долгой жизни для дешёвых пописулек думать не приходится.
Тот, кто хочет бросить бутылку со своей запиской в тот океан, что называется временем – видимо, должен наплевать на «успех», «лайки» и «рейтинг» и вдумчиво выбрать себе аудиторию, состоящую не из дураков. Уважение к читателю – забытая вещь, которую хорошо бы, наконец, вспомнить.
|
|
</> |

 Все этапы оформления рабочей визы в РФ
Все этапы оформления рабочей визы в РФ 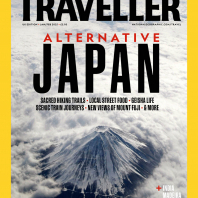 Альтернативная Япония
Альтернативная Япония  Модерно Святой Себастьян
Модерно Святой Себастьян  "герои рейха, сумели сбить по 400—600 самолётов, а советский герой Покрышкин —
"герои рейха, сумели сбить по 400—600 самолётов, а советский герой Покрышкин —  Новогоднее настроение
Новогоднее настроение  "Большая перемена" (мини–сериал, 1972)
"Большая перемена" (мини–сериал, 1972)  Зентангл открытки
Зентангл открытки  Боевые роботы Вермахта или первые наземные беспилотники
Боевые роботы Вермахта или первые наземные беспилотники 



