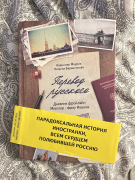О феномене так называемого «сергианства».
 pretre_philippe — 02.03.2010
(по следам дискуссии в: http://kalakazo.livejournal.com/583343.html)
pretre_philippe — 02.03.2010
(по следам дискуссии в: http://kalakazo.livejournal.com/583343.html)Пишу «так называемого», поскольку явление это в церковной жизни очень давнее, происходящее, пожалуй, с константиновских времен, когда государственная власть окончательно смирилась перед фактом существования Церкви как особого института. Но смирилась перед этой данностью существования – еще не значит отказалась использовать ее в собственных интересах. А интересы эти в разные эпохи могли быть различны.
Те, кто «демонизируют» митрополита Сергия Страгородского и всю историю РПЦ в ХХ веке, обвиняя иерархию в соглашательстве с безбожной и богоборческой властью, почему-то упорно не хотят замечать, что похожие явления можно найти в глубине веков, причем как в русской, так и в византийской истории, когда власть церковная попросту «прогибалась» под светскую. Но при этом происходившее в этой глубине веков объявляется «мелкими грехами» и «ошибками», тогда как сравнительно недавнюю политику компромиссов ХХ века со стороны иерархов объявляют просто «сатанизмом». Разумеется, для многих может быть явно несимпатичным и тот вариант, и этот, близкий к нашему времени, но справедливо ли митрополита Сергия делать этаким «козлом отпущения», или все же стоит пересмотреть и переоценить те многовековые церковно-государственные отношения, которые предшествовали правлению митр. Сергия, а также признать, что принцип юстиниановой Симфонии все же оказался либо недостижимым идеалом, либо благочестивой утопией, нежели реальностью явления Царства Божьего, пусть и в ограниченном и умаленном его образе?
В истории Византии были нередки моменты, когда государственная власть вмешивалась в богословско-догматические споры и принимала сторону еретиков, а исповедовавших веру более правильно просто гнала. Что при арианских спорах, что при монофизитских-монофелитских, что при иконоборчестве. А в России именно государственной властью было упразднено патриаршество и была учреждена должность обер-прокурора. А среди обер-прокуроров были личности весьма и весьма далекие от святоотеческого духа, иногда еще похлеще еретичествующих византийских василевсов. Сошлюсь здесь хотя бы на А.В. Карташева («Очерки по истории Русской Церкви»), который приводит программу обер-прокурора Мелиссино при правлении Екатерины Второй. Среди пунктов которой были в частности:
- «для избежания в молитве языческого многоглаголания… отменить множества в поздние времена сочиненных стихир, канонов, тропарей и пр.», «отменить многие излишние праздничные дни; вместо вечерен и всенощных назначить краткие моления с полезными поучениями народу»;
- прекратить содержание монахам, не приносящим никакой пользы (монашества не было в древней Церкви);
- совершенно отменить обычай поминовения усопших, ибо он только доставляет духовенству лишний повод к различным вымогательствам.;
- воспрещать причащение младенцев до 10-летнего возраста;
- епископам по предписанию апостола «с законными женами сожитие иметь».
И т.д.
Местами программа даже более радикальна, чем та, что предлагалась сотрудничавшими с большевиками живоцерковниками-обновленцами. Конечно, этому не дано было осуществиться (как, впрочем, и радикальным взглядам обновленцев 20-х годов ХХ в.) – Мелиссино вскоре был уволен. Но его место занял П. Чебышев, который не стеснялся открыто и прилюдно выражать свой атеизм: «да никакого Бога нет!», а в конце концов был уличен в крупной растрате казенных денег. Гонения на отдельных иерархов (Феофилакта Лопатинского при Анне Иоанновне, Арсения Мацеевича при Екатерине) и притеснения монашествующих было вполне обычным явлением в тот «век просвещения». Но в общем, я не вижу, чем та ситуация была принципиально лучше, чем во времена передовиц в ЖМП 50-70-х годов, где, допустим, по случаю 60-летней годовщины Великой Октябрьской Революции писалось неким Заболотским «сей день, егоже сотвори Господь». Да, власть коммунистов была открыто богоборческой и антихристианской, ну и что? Но в отличие от византийских императоров ее хотя бы не интересовали внутрицерковные догматические вопросы. Беззакония от безбожной власти или беззакония от имени Бога - они все равно остаются беззакониями, а не просто "немощами", "слабостями" и т.д. Более того, преступления под прикрытием Бога и веры со стороны императорской власти в союзе с церковной иерархией еще более отвратительны, чем от безбожной власти, хотя бы уже самим неприкрытым лицемерием! Они-то и породили это самое безбожие…
\
А вопрос соотношения и взаимодействия светской и церковной власти предельно сложен и неоднозначен. Слова апостола Павла «нет власти не от Бога» или апостола Петра «Бога бойтесь, царя чтите» до предела замусолены, в особенности теми, кто склонен был во все времена оправдывать и освящать существующую действительность во главе с сильными мира сего. Но не идет ли здесь речь просто-напросто о самом принципе власти, без которого, разумеется, невозможно никакое совместное человеческое общежитие? А вот как этот принцип осуществляется в различных ситуациях, это уже совсем другой вопрос. Конечно, хорошо было бы, если власть строила свою политику на евангельских началах, но в условиях, когда заповедь о прощении обидчиков и о любви к врагам по-настоящему вмещают единицы из миллионов, осуществлять такую политику просто утопично. Задача власти в условиях падшего мира в самом лучшем случае лишь не дать разрастись злу, ограничивая его внешними средствами принуждения, с которой, впрочем, она во все времена справлялась весьма посредственно. Но тогда получается, что царство Христа пока по-прежнему остается «не от мира сего» (Ин. 18, 36), и царству кесаря совсем уж не стоит претендовать на свое участие в нем. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою» (Мк. 10, 42-44). Происшедшая секуляризация в Новое время в западных странах – это всего лишь возврат к называнию вещей своими именами вместо византийской условной символизации или даже симуляции согласия священства и царства. А само священство постигали разные поползновения со стороны государственной власти тоже далеко не случайно, поскольку в ряде случаев государственные мужи проявляли большее здравомыслие, чем мужи церковные. А иногда и большую порядочность и справедливость. «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лк. 16, 8).
Понятное дело, что любая поместная Церковь как институт живет в гуще мира сего и неизбежно будет взаимодействовать с государственной властью п разным вопросам. В таком случае многовековое прошлое довлеет до сих пор над ее иерахией применительно к нашей ситуации, когда быть свободной и независимой по отношению к власти просто нет соответствующего умения, опыта и привычки. И здесь трудно быть беспристрастными судьями тому же митр. Сергию, который в общем-то действовал, как умел, в русле многовековой русской традиции по отношению к власти, которая к тому времени хотя и вела себя радикально враждебно по отношению к Церкви, но по методам воздействия на нее и по проведению своих «интересов» по существу также не слишком отличалась от петровской или екатерининской.

 Домашний интернет от «Мегафона»: актуальные тарифы и выгоды
Домашний интернет от «Мегафона»: актуальные тарифы и выгоды  Картинки 12 августа 2025 года
Картинки 12 августа 2025 года  31 августа 1947 г. Первый полет Ан-2
31 августа 1947 г. Первый полет Ан-2  Проснулся — убери планету
Проснулся — убери планету  А ведь когда-то было и такое: школа в ГДР
А ведь когда-то было и такое: школа в ГДР  ДОНАЛЬД ЧУДИТ .
ДОНАЛЬД ЧУДИТ .  Камешек слева, камешек справа
Камешек слева, камешек справа  "Не все йогурты одинаково полезны" (с)
"Не все йогурты одинаково полезны" (с)  "БЛОХА"
"БЛОХА"