Наихудший способ употребления авианосца
 naval_manual — 19.02.2020
naval_manual — 19.02.2020
В очередной раз заявил, что "авианосец ПВО" - худший авианосец. Надо объясниться. Объясняюсь.
Уточнение терминологии
Для начала расставим акценты. Главное - в подзаголовке.
Сравнительные категории не так категоричны, как кажется. "Худший"
не значит "плохой" или "бесполезный". Это верно и вообще, и в
частности.
Частность же я обозначу аббревиатурой ПБИА. Вообще, аббревиатуры -
вещь некрасивая, на что и само слово намекает. Любовь к оным
современных военных по обе стороны океана можно объяснить только
тем, что их плохо учат танцам. Но если уж впадать в эстетическую
ересь, то мельчить не стоит. Посему вместо "авианосец ПВО" я буду
использовать некогда введённый в СССР термин "плавучая база
истребительной авиации", или - ПБИА. Тем самым я попробую
срифмовать уродство эстетическое с дефектами семантическими,
повысив суггестивность до максимального уровня.
Наконец, я рискну разобрать проблему "в общем". Иными словами, не
ограничиваясь определённым историческим периодом и не определяя
"авианосец" достаточно строго. Разве только замечу, что речь идёт о
боевых кораблях специальной постройки - оставим за скобками
то, что во время Второй мировой называли "эскортным
авианосцем".
Чистый разум
С точки зрения первосортной военно-морской логики, самый крупный
недостаток ПБИА - пассивная, по определению, роль. Never remain
inactive in the vicinity of the enemy, учит американец, и этому стоит
верить. Куда как более красную формулировку того же принципа
отечественным специалистом я использую ближе к финалу.
Принцип борьбы за инициативу - не единственный принцип, который
рушится при превращении гордых боевых кораблей в плавучие базы.
Следующим пунктом в списке - принцип экономии усилий. В основе
защиты от воздушного нападения силами авиации - боевой воздушный
патруль, постоянно дежурящие в воздухе истребители. Поддержание
боевого воздушного патруля подразумевает холостой расход большого
объёма усилий. Дополнительную нагрузку на лётчиков и героев ангара
и полётной палубы. Дополнительный износ техники, лишний риск аварий
- а безопасность полётов в палубной авиации, как мы помним, есть
альфа и омега.
Наконец, с поддержанием боевого воздушного патруля связаны и
проблемы тактические. Привязка ПБИА к защищаемому объекту лишает
корабль свободы действий - а заслуживающий защиты объект, как мы
увидим ниже, обычно малоподвижен или неподвижен вовсе. Регулярные
взлётно-посадочные операции дополнительно ограничивают подвижность
авианосца. Между тем, подвижность и свобода действий - один из
главных аргументов носителя удлинителей. Другой козырь в авианосном
рукаве - скрытность. И она так же обычно страдает, и
страдает сильно.
Проблема Спрэнса
Я долго думал над тем, какой же пример рассмотреть первым - и в
итоге выбрал всё же Филиппинское море. Поскольку это вершина
искусства авианосного сражения - и, одновременно, отличная
иллюстрация вопроса о цене пассивности. Все (все?) мы знаем:
Спрюэнс в этом бою сознательно отдал инициативу Одзаве. Причём
отдал, как казалось самому Спрюэнсу, по примеру Того - но на деле,
в отличие от великого японца, Спрюэнс отдал противнику инициативу
не только оперативную, но и тактическую.
К чему это привело? Для начала - к тому, что в первый день сражения
Спрюэнс вообще не смог контратаковать противника. Достать Одзаву
удалось только вечером второго дня боя: американцам удалось утопить
авианосец и два танкера, ещё три авианосца, линкор и танкер
получили повреждения. Результат казалось бы неплохой - но, если
принять в расчёт имевшиеся у Спрюэнса силы, и сравнить соотношение
усилий и результатов с аналогичными соотношениями боёв 1942 г., то
результат покажется скромным, а человеку взволнованному просто
смехотворным. У Спрюэнса было 7 больших и 8 лёгких авианосцев, и
896 самолётов - 470 истребителей, 233 пикировщика, 193
торпедоносца. Японцы в бою в Коралловом море имели 2 больших и 1
лёгкий авианосец, на которых было 145 самолётов (58 истребителей,
42 пикировщика, 45 торпедоносцев) - иными словами, у японцев всего
самолётов было меньше, чем у Спрюэнса одних только торпедоносцев.
Тем не менее, японцы утопили 1 авианосец, 1 танкер, 1 эсминец, и
ещё 1 авианосец сумели повредить.
Отдав противнику инициативу, Спрюэнс лишил Америку своего
Трафальгара - и те американцы, которые не могут без Трафальшара,
объявляют таковым "охоту на индюшек", первый день сражения.
Действительно, в этот день американские истребители уничтожилии
около 300 палубных самолётов противника, однако утверждение о
решительной победе над японской палубной авиацией - и,
соответственно, превращение Маринского боя в Трафальгарский - можно
поставить под сомнение.
Авиагруппы 3-й и 4-й дивизий авианосцев, в состав которых входили
уцелевшие в июне корабли, насколько я знаю, по плану должны были
быть восстановлены к ноябрю 1944 г. К декабрю того же года
планировалось завершение подготовки 1-й дивизии авианосцев. И
японцы достаточно сильно продвинулись в этом деле, чтобы считать
эти планы реалистиными - тем более, что они уже заново формировали
авиагруппы, после потерь на Соломновых островах.
Тот факт, что в бою в заливе Лейте японцы использовали только часть
авианосцев, а сами авианосцы имели только часть положенных им
самолётов, объясняется высоким темпом наступления Нимица
(поддержание высокого темпа, та самая инициатива - один из ключевых
козырей американского главкома) и... тем фактом, что половина
палубных самолётов была выбита чуть ранее, во время сражения за
Формозу. Наконец, как все мы помним, погоня за уцелевшими в
Филиппинском море кораблями привела к трагедии у о.
Самар.
Таким образом, вопрос восполнения потерь уровня тех, что японцы
понесли в бою в Филиппинском море, был вопросом нескольких
месяцев. Построить новый авианосец за несколько месяцев.
Поэтому победы истребительной авиации не шли ни в какое сравнение с
победами авиации ударной, поэтому Мидуэй был для японцев страшнее
Филиппинского моря, и поэтому топить чужие корабли было куда как
лучше, чем сбивать чужие самолёты.
Итальянский страх
Первый пример получился длинным и сложным, но то от любви ко всей
этой тихоокеанской истории. Попробую далее отбросить эту
мэхэнианскую размазню, и говорить по-нашему, по-сетевому - кратко,
ёмко, по делу. Начнём с британцев.
Как известно из истории, в 1940-1941 г. авианосец заявил о себе,
как о грозном оружии морской войны. Заявление было написано
хорошим английским языком. Дела славные - Таранто, Матапан,
"Бисмарк". Резульаты крупные, оперативные и даже стратегические. И
вот этих крупных результатов британцы добились
небольшим - десятки в лучшем случае - числом ударных
самолётов сомнительного качества.
Одним из наиболее важных результатов стала "боязнь авианосцев".
Носителем №1 был Гитлер - именно его желание "прежде найти и
обезвредить авианосец" парализовало "Тирпиц" в Норвегии. Но я
предлагаю отныне и впредь именовать любовь к ПБИА "итальянским
страхом" - чтобы было убедительней и обидней.
Поразительно, но оборонительное мышление оказалось столь сильно у
итальянцев, что они никогда не мечтали о том, как их
торпедоносцы кружат над Александрией - или их пикировшики
вскрывают палубы британских авианосцев. Всё, о чём мечтали
итальянцы - горстка истребителей, отгоняющих "авоськи" от их
линкоров и крейсеров. Мечта трусливая - и глупая, мечта тех, кто
никогда авианосца не имел и не понял, каким образом использовать
его по полной.
От Формозы до Нордкапа
Теперь - к битве за Формозу. В этой битве американское TF38
поразило японскую базовую авиацию - при превосходстве японцев в
силах - позволив, тем самым, Макартуру исполнить своё обещание. При
этом большая часть японских самолётов была уничтожена в воздухе, в
бесплодных атаках на американские корабли. Казалось бы, прекрасный
аргумент за ПБИА.
Первое "но" - в этом сражении TF38, не привязанное к охраняемому
объекту, вовсю пользовалось подвижностью и скрытностью. Японские
ударные группы избивались американскими истребителями в процессе
поиска цели. Когда менее чем через месяц, в ноябре 1944 г., то же
самое TF38 было посажено на цепь у плацдарма на Лейте - потери
американцев стали куда тяжелее (да, там были "камикадзе", и всё
же).
Второе "но" - в конечном итоге именно ударный потенциал TF38 лишал
японскую авиацию шансов. Если бы японские самолёты остались на
земле - они были бы попросту уничтожены американскими
бомбардировщиками. Игнорировать силу, генерирующую более тысячи
ударных вылетов в день - а американцы во время битвы за Формозу
генерировали - японцы не могли в принципе, от таких предложений
нельзя отказаться. Чистая ПБИА такого не может.
И в том же смысле стоит рассматривать имевшуюся - насколько я знаю,
вроде бы, не уверен и т.п. - у американцев в восьмидесятых
концепцию "битвы на свежем воздухе" (Outer Air Battle - впрочем,
есть и иная трактовка термина). А именно: идею о том, что их
авианосцы должны появиться у берегов СССР, у Кольского полуострова
и Камчатки с тем, чтобы спровоцировать атаки советской морской
ракетоносной и дальней авиации, и уничтожить все эти Ту-16/Ту-22 в
воздухе.
Это было своеобразное прочтение Мэхэна и концепции "генеральной
баталии", в данном случае уместное - восстановить тяжёлую авиацию
за время войны едва ли было возможно. Однако и в этом случае в
основе провокации лежал ударный, в том числе ядерный, потенциал
палубной авиации. Если бы атаки не было - американцы уничтожили как
минимум часть советской авиации на базах, и бомбили бы всё ценное
(на Кольском полуострове такого много). Таким образом, в обоих
рассмотренных случаях активного применения палубной истребительной
авиации это применение становилось возможным и результативным
благодаря ударному потенциалу.
Иракский провал
Коль скоро мы перебросили мостик от Второй мировой к "холодной", то
обсудим и интенсивность конфликтов. Каковая бывает разной -
высокой, средней, низкой. Невысокая ценность ПБИА в последнем
случае очевидна - и да, при всей отечественной любви к
интенсивности высокой, первым боевым эпизодом в карьере нашего
почти авианосца стал именно конфликт низкой интенсивности.
Что можно сказать про конфликт интенсивности средней, когда враг -
не ровня, но и не совсем слаб? Тут истребительный потенциал
может быть востребован. Так было на Фолклендах, так могло
быть и во время "Бури в пустыне" (на практике F-14 не стали звездой
той войны). Однако он востребован будет лишь в отдельные моменты
времени, а в остальное - будет балластом, в то время как ударные
возможности будут востребованы на протяжении всей войны. Именно
этот балласт и привёл к тому, что результаты применения
американского флота во время "Бури в пустыне" оценивались негативно
- авианосцы "генерировали" относительно мало ударных вылетов в
расчёте на один самолёт (и, не будь "томагавка", операция в целом
была бы расценена ). И после войны американцам пришлось заниматься
глупостями, прилаживая бомбы на тот самый F-14.
Нападайте!
Начали с американца - а закончим Макаровым. Апокрифичное
"Нападайте!" - самый краткий и полезный из известных мне
военно-морских афоризмов. Рассмотрю я его на ещё одном
американо-японском примере. Речь - о событиях 24 октября 1944 г.,
известных как "Бой в море Сибуян". В тот грозный день мудрый
командующий японской базовой авиацией на Филиппинах не стал
пассивно расходовать свои самолёты на прикрытие линкоров Куриты -
сознательно бросив все силы против американских авианосцев, потому
как "лучшая защита - это нападение".
Мудрый был прав. Под удары японцев попала TG38.3 - самая сильная из
трёх американских групп. Авианосцы TG38.3 утром 24 октября 1944 г.
имели 245 самолётов, в том числе 99 ударных - при этом против сил
Куриты удалось выполнить всего 80 вылетов (0,33 на самолёт), в т.ч.
56 ударных (0,56 на самолёт). Не попавшая под удары TG38.2
обеспечила 130 вылетов против Куриты - при 143 самолётах (0,91 на
самолёт), при этом 58 ударных машин выполнили 66 вылетов (1,14 на
самолёт). Таким образом, японские атаки, слабые и
малорезультативные, уполовинили ударный потенциал TG38.3,
заставив гордые "эссексы" свернуться ёжиком ПБИА. Известное нам об
успехах японской истребительной авиации позволяет увернно
утверждать - она не была в состоянии добиться сколько-нибудь
похожего результата.
Может пригодиться
Сказанное выше не следует трактовать как утверждение о
бесполезности истребительной палубной авиации - надеюсь, эта
оговорка не оскорбит читателя умного и внимательного. Более того,
истребительный потенциал может оказаться главным, и может быть
использован для достижения результатов оперативных и стратегических
- разумеется, я не забыл ни про Мальту, ни про Окинаву, ни про те
же Фолкленды. Но эти примеры фактически полностью описывают
все сценарии, в которых истребительный потенциал важен, а
ударным можно пренебречь (и то с большими оговорками).
Итак: если вам нужно высадить стратегический десант далеко от своих
берегов перед лицом "близкого по возможностям противника", или если
вам нужно провести стратегически важный конвой мимо его аэродромов,
и если при этом ударные возможности не позволяют рассчитывать на
то, что вражескую авиацию удастся уничтожить на берегу (или эта
опция исключена по политическим соображениям) - тогда и только
тогда ПБИА истребительный потенциал будет главным
для вашего авианосца. В других ситуациях он в лучшем случае будет
дополнять потенциал ударный, в случае худшем - не будет востребован
вовсе.
|
|
</> |

 Секреты подготовки раллийного авто: инженерный взгляд
Секреты подготовки раллийного авто: инженерный взгляд  Контрольная точка: Полночь
Контрольная точка: Полночь  «Ракушка» - легендарные гаражи!
«Ракушка» - легендарные гаражи!  секреты мастерства
секреты мастерства  Наше старое кино
Наше старое кино  По сетевым мотивам
По сетевым мотивам  Найди пчелу или шмелу
Найди пчелу или шмелу  Ростех пополнил парк санитарной авиации девятью новыми вертолетами Ми-8МТВ-1
Ростех пополнил парк санитарной авиации девятью новыми вертолетами Ми-8МТВ-1 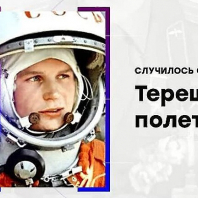 16 июня ● Впервые женщина полетела в космос...
16 июня ● Впервые женщина полетела в космос... 



