Любительская вертушка
 auvasilev — 03.05.2021
Возможно, я когда-нибудь более подробно расскажу о семье моего
отчима, её история достаточно любопытна и характерна для своего
времени, но сейчас, дабы не загромождать текст и не отвлекаться от
основной мысли данного текста, я ограничусь минимальной
информацией.
auvasilev — 03.05.2021
Возможно, я когда-нибудь более подробно расскажу о семье моего
отчима, её история достаточно любопытна и характерна для своего
времени, но сейчас, дабы не загромождать текст и не отвлекаться от
основной мысли данного текста, я ограничусь минимальной
информацией.Мать отчима звали Софья Борисовна. Она происходила из весьма обеспеченной харьковской еврейской семьи, гимназию успела окончить как раз в семнадцатом. У неё была единственная и любимая сестра Серафима, в семье её называли тётя Сима, немного младше Софьи, потому как-то доучивалась уже при советской власти. В начале тридцатых Сима вышла замуж за Матвея Мееровича (позднее ставшего Марковичем) Мексина, ещё довольно молодого, но подающего большие надежды партийно-хозяйственного работника с кристально пролетарскими корнями. Для нас «дядя Туся». В тридцать седьмом он был назначен начальником Главэлектропрома Наркомата тяжелой промышленности, машиностроения, электростанций и электропромышленности СССР. В том же году его семья вселилась в квартиру № 125 дома по улице Серафимовича, где прожили они до конца жизни. На той же лестничной клетке, напротив, жила семья Артема Микояна, соседи очень дружили.
В шестидесятых, когда мы начали общаться, Мексин уже стал зам. начальника Госэкономсовета СССР, позднее, когда функции этого органа перешли Госплану, работал там заведующим одного из ведущих отделов, это должность выше министерской, так как ряд отраслевых министров были у него практически в подчинении.
Сестры Софа и Сима были очень близки. Довольно многие годы они жили в разных городах на большом расстоянии, Софья Борисовна в начале войны с мужем эвакуировалась в Свердловск, но оказавшись, наконец, поблизости, начали общаться довольно регулярно. Дядя Туся держался несколько в стороне, но жену свою обожал, так что и к Соне, и к её сыну, моему отчиму, своих детей у Мексиных к огромному их сожалению не было, относился очень тепло и по-родственному.
Правда, в семье был железный закон. Ни с каким практическими просьбами обращаться к Матвею Марковичу было категорически нельзя. Я даже не могу точно сказать, с чьей стороны был установлен этот закон, знаю только, что соблюдался он без малейшего напряжения, однако неукоснительно, хотя в жизни отчима и его матери было на тот момент огромное количество проблем, которые Мексин мог бы решить одним телефонным звонком, и на моей памяти был нарушен лишь однажды, о чем чуть позже.
Впервые я оказался в «Доме на набережной» на каком-то семейном мероприятии уже не ребенком, а достаточно развитым подростком, но и дом, и квартира Мексиных произвели на меня такое впечатление, что я долго не мог закрыть рот от изумления. Врать не буду, точно не помню, три или четыре комнаты там было, что само по себе для двух человек представлялось чем-то немыслимым, но я в принципе не представлял, что так люди могут жить. Хотя сейчас прекрасно понимаю, что в основном там имелось довольно скучное, предельно казенное советское представление о достатке и удобстве. Мебель и даже большинство предметов обихода, например, уже к тому времени сильно устаревший телевизор «Ленинград» со шторкой, так и просто казенные с даже не маскирующимися инвентарными бирками. На кухне поразила индивидуальная дверца мусоропровода. Вообще-то это маразм и антисанитария, такого почти никогда нигде больше не делалось, но тогда казалось какой-то сверхъестественной роскошью. При том, что сама кухня по нынешним понятиям совсем никакая, всего метров пять-шесть.
А вот в гостиной была штука совсем немыслимая. Нечто типа эстрады, правда, невысокой, такое полукруглое возвышение, а на нем рояль. А перед ней длинный стол человек на пятнадцать, если не больше, заваленный яствами. То есть, естественно, завален он был ими, видимо, не постоянно, но, поскольку я и приходил туда только на какие-то банкеты, то у меня в памяти он остался исключительно заставленный самыми вкуснейшими блюдами и продуктами.
И ещё поразившие меня моменты. Пропуск в подъезд нужно было заказывать заранее, не уверен, проверяли ли документы, но вот количество гостей точно должно было соответствовать разрешенному. И на лифте нельзя было ехать без сопровождающего. А уходить желательно не позже двадцати трех. Возможно, допускались исключения, но мы ими не пользовались.
А теперь о том случае, когда был нарушен закон о запрете просьб. Когда в семьдесят первом я сдавал экзамены в институт, то набрал восемнадцать баллов из двадцати. Это был так называемый «полупроходной». То есть, с ним точно поступали только после армии или с рабочим стажем минимум три года. А остальные, уж как повезет, сколько свободных мест останется, или по каким иным критериям, но точно не все. И мой отчим в тайне от меня и от матери, зная, как мы к этому отнесемся, пошел к дяде Туси, чтобы тот кому-нибудь позвонил. Много лет спустя, когда он мне в этом признался, отчим рассказывал, что Матвей Маркович без лишних слов схватился за трубку «кремлевской вертушки» и попытался связаться с ректором МГПИ. Но тут выяснилось, что у ректора нет никакой «вертушки». Дядя Туся был растерян и крайне возмущен. Он сначала не поверил и потребовал у секретаря, чтобы тот уточнил, а когда этот вопиющий факт подтвердился, то стал укорять отчима, зачем тот позволил мне поступать в ВУЗ, начальник которого даже не имеет «вертушки».
К счастью, история не имела никаких последствий, поскольку, когда Мексин всё-таки связался с ректором, тот пояснил, что наш декан Степан Иванович Шешуков пробил через министерство приказ, согласно которому на первый курс факультета зачислялись все с восемнадцатью баллами при условии, что при переходе на второй останется всё равно штатное количество в сто человек. Так что, Васильев уже в списках поступивших и ничего дополнительно делать не требуется.
Но вспомнил я об этом замечательном человеке совсем по другому, очень мелкому, но почему-то запомнившемуся мне поводу. Как-то в один из редчайших случаев, когда не торжество, а обычный скромный семейный ужин в самом узком кругу, только Мексины, Софья Борисовна и нас трое, зашел невозможный в иной ситуации за этим столом разговор о бродивших в стране недовольных настроениях. Разговор, надо сказать, предельно аккуратный и без малейшего намека на хоть какой-то радикализм, уже не вспоминая и запахе диссидентства, но что-то такое промелькнуло относительно народного ворчания по поводу скудности магазинных прилавков. И Матвей Маркович без малейшего раздражения или тем более злости, а исключительно с добродушнейшим удивлением высказал свое мнение. Причём почему-то обращаясь ко мне, хотя обычно этого не делал, думаю, просто несколько опасаясь общаться с подростками за полным отсутствием опыта в этом деле. Он поднял на вилке кусок любительской колбасы с большого блюда мясной нарезки и покрутил у меня перед глазами: «Ну, скажи, Саша, ведь вкусная же колбаса? Я специально заходил недавно в обычный магазин. Она там лежит совершенно свободно. Да, очередь, конечно, была, но не такая уж и большая. Вполне можно купить. Совершенно не понимаю, чем люди недовольны».
«Обычный магазин», в который заходил дядя Туся, в другой он чисто физически просто попасть не мог по ряду просто бытовых объективных причин, находился в этом же доме, рядом с кинотеатром «Ударник». Он действительно был общедоступным, но, понятно, снабжался по высшей категории, на уровне «Смоленского» или «Сорокового». И, конечно, «Любительская» колбаса там бывала много чаще, чем в остальных магазинах страны. Однако самая обычная колбаса. Та же, что и для всех.
Но дядя Туся на неё в магазине только посмотрел. Он её не покупал. Как он ничего никогда не покупал из продуктов ни в каком магазине. И тетя Сима не покупала. Они получали «кремлевский паек». Который им регулярно привозил шофер. По большей части паек выдавался в спецраспределителе на Грановского, но в Доме на набережной был и свой филиал. В счет пайка из зарплаты вычиталось 70 рублей, но полная стоимость его была 142. Однако и это были очень условные рубли, поскольку цены на подавляющее большинство продуктов там были просто смешные. Так что этого более чем хватало на месяц даже с учетом банкетов.
(Тут по поводу цен вспоминается ещё одна посторонняя и много более поздняя история, которую, так и быть, к слову упомяну. Уже году в восемьдесят пятом я, работая в «Крестьянке», довольно тесно сотрудничал с Главным инспектором по технике безопасности ВЦСПС и как-то заехал к нему пообщаться в основное здание на Ленинском. Мы засиделись за документами, и он предложил мне пойти пообедать в их столовую. Но повел меня не в обычную для рядовых сотрудников, а в отдельную для начальства, куда имел право доступа и даже с гостями. Там была стандартная столовская стойка, но на ней такие деликатесы, которых я к тому времени уже давно не видел. Да ещё и спиртное вплоть до бутылок холодного пива нескольких сортов. Так что я набрал от вольного. Но привычной кассы в конце прилавка не оказалось, инспектор сказал, что «это потом, при выходе». Мы роскошно пообедали и, уходя, я обнаружил у дверей столик без всякого кассира, там лежало меню с ценами, рядом калькулятор и каждый самостоятельно подсчитывал свой чек, после чего клал деньги в какую-то коробку. Инспектор гостеприимно махнул рукой и сказал, что угощает, но я гордо отказался. Однако, когда посчитал, что понял, насколько смешной была моя гордыня. Цены оказались столь мизерными, что весь обед уложился в что-то чисто символическое, типа, рубль с мелочью. Мог и не выпендриваться.)
А ту «Любительскую», которая была в пайке у дяди Туси, выпускали в специальном цеху на Микояновском мясокомбинате. Я перед Олимпиадой там по редакционному заданию побывал и даже сделал репортаж. Для производства «кремлевской спецпродукции» стояли специальные немецкие и чешские станки, сырье выделялось с отдельных специальных складов и занимались всем этим очень специальные люди высшей квалификации. Меня допустили посмотреть потому, что там же собирались выпустить что-то особо привлекательное для иностранных спортсменов. После долгого перерыва я тогда снова попробовал эту «Любительскую» и привычно пришел в восторг. Очень уж, сволочь, была вкусна!
И ещё мне почему-то запомнился достаточно случайно услышанный разговор двух сестер, что-то прибиравших на кухне после ужина:
- Симочка, ты мне как-то давно писала, что начала водить машину. А что, больше сама не ездишь?
- Ой, Софочка, это когда было… Сразу после войны Туся привез из командировки в Германию две машины, «Хорьх» и «Опель-адмирал». Сам стал ездить на «Опеле», а мне отдал вторую, так я и пошла в автошколу. Несколько лет развлекалась, но где-то году к пятидесятому автомобили приказали сдать, а у нас осталась только одна служебная с шофером. Правда Туся тогда приложил купить мне «Победу», но я отказалась, ездить особо некуда, да и возраст уже не тот, нет большой охоты…
Я слушал эту беседу как будто говорили марсиане. Чисто теоретически я знал, что в принципе существует такая возможность. Но у меня самого, да и у родителей не было знакомых, имевших личный автомобиль. В совсем раннем детстве, когда мой отец работал главным зоотехником совхоза «Дукча» на Колымской трассе, у него был мотоцикл «Урал» с коляской, и папа считался королем дорог.
… А потом умерла Софья Борисовна. Вскоре за ней и тетя Сима. И через насколько лет мой отчим. Наше общение с Матвеем Марковичем прервалось. У меня остались лишь самые тёплые воспоминания об этом замечательном и по-своему очень хорошем человеке. Но дальнейшая информация о нем лишь из официальных источников. В семьдесят три года он вышел на персональную пенсию союзного значения, но еще 8 лет трудился старшим инженером ВНИИ Холодмаша. За большой вклад в развитие отрасли химического и нефтяного машиностроения, в создание производственных мощностей по производству химического и нефтяного оборудования был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями, а также знаком «50 лет пребывания в КПСС».
Умер Матвей Меерович в 2002 году в возрасте 95 лет.
|
|
</> |

 Промышленное оборудование
Промышленное оборудование  Без названия
Без названия  Пятничное чаепитие
Пятничное чаепитие  Ультиматум Орбана
Ультиматум Орбана  Бедный мир
Бедный мир  Россия Великая и Малая. Истоки терминологии
Россия Великая и Малая. Истоки терминологии 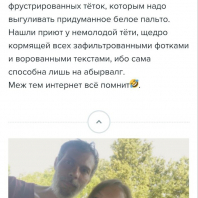 Макак из ЖЖ
Макак из ЖЖ  Узбек Тогрулович
Узбек Тогрулович 



