Женщины на фронтире традиции
 swamp_lynx — 12.10.2023
"Длительное время образ женщины не был на фронтире традиции,
женщина выполняла определенные традиционные функции в
обществе, и они казались сами собой разумеющимися, не представляли
самостоятельного объекта интереса или исследования, будучи тем
самым фундаментом.
swamp_lynx — 12.10.2023
"Длительное время образ женщины не был на фронтире традиции,
женщина выполняла определенные традиционные функции в
обществе, и они казались сами собой разумеющимися, не представляли
самостоятельного объекта интереса или исследования, будучи тем
самым фундаментом.Однако в последние годы ситуация изменилась, и образ женщины, как и значение ее роли, вышел на фронтир — он обсуждается, искажается, изменяется. Именно за образ женщины сейчас идёт самая страшная ожесточенная борьба, потому что такие «фронтирные» образы и концепты формируют образ того, как общество и мир будут выглядеть в будущем. Этот изменённый образ «выкрадывается» и ложится в основание, в фундамент совершенно иной традиции (традиции уже скорее в перевёрнутом смысле, в своеобразную контртрадицию с соответствующими образами и смыслами)." Ольга Бонч-Осмоловская.

Фронтир как духовный, традиционный, так и культурный, территориальный является зоной столкновения смыслов и идей, выявляющей/проявляющей дух времени;
— отказ от проживания этих смыслов и уклонение от участия (в т.ч. деятельного интеллектуального) в этих событиях приводит к выпадению из исторического времени, консервации, зацикленности на старом;
— человек, нашедший в себе силы обратиться к фронтиру традиции и вступить на это поле борьбы идей и смыслов, вынужден постоянно бороться с соблазном пойти по простому пути, предлагаемому контртрадицией - пути комфорта и эгоизма;
— наше общество, много лет находясь под влиянием совершенно контртрадиционного дискурса, оказалось морально катастрофически не готово к вызову военного времени;
— женщине в этих условиях порой приходится делать чудовищно сложный выбор, избрав вместо привычного комфорта, преодоление себя в жертвенности, поддержку мужчины перед лицом смертельной опасности.
- противопоставление женского и мужского (в духе феминистических идей об угнетении женщин мужчинами) непродуктивно, потому что в случае достижения женского доминирования происходит аннигиляция самого женского и подмене его мужским;
— вместо этого противопоставления имеет смысл говорить о суверенном сосуществовании двух миров и их творческом взаимодействии;
— традиционный взгляд на женское и мужское начала оба наделяет рядом уникальных характеристик, перевес в одну из сторон разрушает вселенскую гармонию, в том числе обрушает общество;
— эта война должна не только разбудить спящее общество, но и в каком-то смысле спасти женщину для традиции, потому что дальнейшее следование контртрадиционному дискурсу приведёт к окончательному размыванию функций и осевых характеристик женского и мужского миров и вслед за этим — неизбежно к расчеловечиванию.
Алексей Рысаков. Отчего-то вспомнил одно стихотворение Ван Вэя - случайная ассоциация возникла. Вот оно:
王维 "使至塞上"
單車欲問邊
屬國過居延
徵蓬出漢塞
歸雁入胡天
大漠孤煙直
長河落日圓
蕭關逢候騎
都護在燕然
Ван Вэй
"Отправляюсь на фронтир"
На простой колеснице я с инспекцией еду к границе,
Царство Шу, уж пройдя Цзююань, миновал.
На песчаные дюны взобравшись я к ханьской заставе подъехал,
В небо севера вспять улетает гусей караван.
В одиноком тумане пустыня без края простёрлась,
Солнца диск закатился вдали за рекой Хуанхэ.
Я с разведкою конной столкнулся на перевале,
Чтоб узнать, что наместник сейчас на Яншани горе.
Ван Вэй написал это восьмистишие в 737 г. во время поездки на линию боевого соприкосновения с тибетцами, куда его отправил с инспекцией император Сюань-цзун
Ассоциация была связана не только с названием и обстоятельствами написания, но и с образным рядом. Понятно, что "дикие гуси" летящие на север, в родные для них хуские земли - это старая метафора тоски воюющих и погибающих вдалеке от своих близких воинов, но любопытен образ границы/фронтира как перехода от привычного мира к пустыне, столкновение танжэней с тибетцами приобретает масштаб не просто конфликта цивилизационного - конфликта оседлой и кочевой цивилизации, но становится столкновением пространств - пространства культурных смыслов, пространства традиции и безбрежного нуль-пространства опустынивания, забвения человеческого. Сразу вспоминается из "Also sprach Zarathustra": "Die Wüste wächst: weh Dem, der Wüsten birgt!" ("пустыня растёт и горе тому, кто скрывает пустыню в себе")
 windeyes: Насчет конкурентности.
Все больше кажется, что нелюбовь к соревнованиям, борьбе и победам
– это гордыня. Та крайность, против которой другая это жажда победы
для власти над побежденными, детская такая, дворовая, смешная,
только не у детей.
windeyes: Насчет конкурентности.
Все больше кажется, что нелюбовь к соревнованиям, борьбе и победам
– это гордыня. Та крайность, против которой другая это жажда победы
для власти над побежденными, детская такая, дворовая, смешная,
только не у детей.Не иметь желания конкурировать – это быть заранее настолько в себе, в своем, что другое просто не нужно. Соревноваться? С кем? С ними? Нет уж, пусть для них, слабых и недалеких это будет выглядеть слабостью, единицы, подобные мне, знающие себе цену, на такое размениваться не станут. Доказывать же что-то друг другу нам, уникальным, совершенно бессмысленно. Уникальные могут друг друга только ценить или нет – издалека (чаще нет, чем да). А в борьбу вступать – зачем? Нам делить нечего, ведь мы уникальны.
Соревноваться не чтоб стать выше других, а себе доказать, что сможешь, хоть и слаб, но не сдашься дотерпишь - нормально. Критерий этой нормальности: когда вдруг все соперники позади, то неудобно как-то перед ними, что ли. Как неудобно бывает от своей правоты. Когда хочется скрыться, уйти. Во всяком случае, когда нет желания праздновать победу над кем-то.
 az118: Тайна запятой
az118: Тайна запятойЛука:
блаженны нищие, ибо духом они обретут Царствие Небесное.
Но горе богатым, ибо они уже имеют утешение на земле.
У Луки Сын заповедует не привязываться к земному и не быть всегда довольным земным и собой на земле и хранить в чаше сердца плод из данного при крещении семени Святого Духа, а для этого надо быть сильным духом при помощи Прсв.Троицы, но не духовным иждивенцем.
или (Матф.5:3,5)
блаженны нищие духом, ибо они обретут Царствие Божие.
блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
т.е. Матфей прямо приписывает Сыну заповедь, что бессильные нищие духом и кроткие построят Царствие Божие на земле, в котором и будут править по воле Божьей. Правда, св.отцы толкуют это как свободу от эгоизма, своеволия и гордыни при открытости сердца Дарам Святого Духа, т.е. здесь парадигма противостояния сердца как сосуда с человеческим дерьмом сердцу как пустой чаше, которую через св.отцов постоянно наполняет дарами внешняя сила. Но на этом 1000 лет и стоит Запад, особенно сейчас, когда роль св.отцов перешла к проповедникам либеральной демократии.
при этом
кто рожден не от воды и духа, не войдет в Царствие Небесное. (Откр.3:3-6)
это конечно та безвременная и безмерная Вода, из которой вышел Дух, зачавший в ней Сына, и выросла Вселенная со Временем и Пространством. и человеками.
Нищие духом не в состоянии отличить Дары Святого Духа от даров духа лжи и раздора.
Они вообще не могут различать духов, как св.отцы не могут отличать духов от душ, высоты от глубины, ибо для различения надо быть духом.
Книга перемен. Это время кризиса и перехода от одного состояния к другому. Структура вещей ослабевает, вплоть до распада связей. Не бойтесь действовать самостоятельно. Продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Найдите то, что действительно важно для Вас, и сосредоточьтесь на этом. Хотя порядок вещей находится под угрозой разрушения, в ситуации действует творческая сила, осуществляющая прорыв к новому порядку. Если положение не устраивает Вас, откажитесь от привычного и устремитесь к неизведанному. Основа вещей меняется. Пусть мощная сила, которая поддерживает бытие, наполняется и влечет Вас. Это очень важное время.
Андрей Парибок. Нации - создание эпохи капитализма. Капитализм завершается, завершатся с ним и нации. В мире будут складываться новые общности.
 kryloyashher: ИИ "заточен" именно
на фильтрации доступных данных, а настоящий интеллект — на поиске
недостающих. Причина в том, что НИ обращается к идеальной модели
("идее", тому, что не материализовано), а ИИ — к тому, что уже
овеществлено.
kryloyashher: ИИ "заточен" именно
на фильтрации доступных данных, а настоящий интеллект — на поиске
недостающих. Причина в том, что НИ обращается к идеальной модели
("идее", тому, что не материализовано), а ИИ — к тому, что уже
овеществлено.Чжуан-цзы. То, что ты слышишь ушами, дальше уха не идет; разум не должен стремиться к отдельному существованию, тогда душа сможет опустошиться и впитает в себя весь мир.
 ex0rtodox: Сколько копий ломается
порой из-за одних только мнений! Перестав бороться за выживание,
люди не заметили, как смещённость в ум изменила их жизнь, подчинив
их новой зависимости. Ум дан человеку для решения конкретных
внешних задач. Он – инструмент. Сделав себя его придатком, человек
переносит свою жизнь в виртуальное пространство и начинает жить
придуманной актуальностью.
ex0rtodox: Сколько копий ломается
порой из-за одних только мнений! Перестав бороться за выживание,
люди не заметили, как смещённость в ум изменила их жизнь, подчинив
их новой зависимости. Ум дан человеку для решения конкретных
внешних задач. Он – инструмент. Сделав себя его придатком, человек
переносит свою жизнь в виртуальное пространство и начинает жить
придуманной актуальностью.Многие считают мнение конечным продуктом знания (книжного, информационного). Мнение придаёт личности вес, добавляя ей уникальности и устойчивости. Уникальность – залог ценности, а её сплав с устойчивостью повышает самооценку, без которой человек не стоит прочно на ногах, а превращается в сплошной комплекс неполноценности. Взрослость подразумевает основательность, и чувство собственной важности – самый доступный и простой способ её обрести. Правда, в дешёвых вещах всегда есть изъян. В данном случае подвох таится в виртуальности всей этой конструкции, ибо всё, о чём мы говорим, локализовано исключительно в уме отдельного человека. Где, как известно, гнездится множество тараканов, к которым сам человек привыкает.
Желание знать подобно страсти коллекционера, заставляющей его тратить годы и годы жизни на поиск недостающей этикетки. Пока коллекция не завершена, коллекционер чувствует некий зуд, не дающей ему остановиться. Механизм этого явления кроется в устройстве ума. Он принимает любой вопрос как задание, аналогичное компьютерной программе, на выходе которой должно быть получено понятное и непротиворечивое решение, цельная и завершённая картинка. Ум не любит неопределённости.
Важность вопроса определяется его актуальностью, то есть глубиной связи с жизненной задачей. В решении о том, что считать важным, участвует не только ум – в этом выборе задействована также свобода воли. И в этом смысле решение подчинить свою жизнь погоне за спичечными этикетками – безумное.
Мой знакомый, делясь воспоминаниями о своей юности, рассказывал о своём опыте пребывания под “веществами”. По его словам, менялась именно наполненность ощущениями, яркость переживаний была предельной. Все действия, куда направлялись усилия, выполнялись крайне тщательно, и удовольствие от этого человек получал неимоверное. В частности, он пару часов отчищал бритвой мельчайшие пятнышки с кафеля в ванной, испытывая от этого невероятный кайф.
 moncolonel: А знаете, побыв в
соцсетях последние 10 лет, я как-то понимаю что нет никаких простых
людей, и нет никакой разменной монеты — все все видят, у всех есть
возможность принимать решения за себя. Вот и принимают — те или
иные.
moncolonel: А знаете, побыв в
соцсетях последние 10 лет, я как-то понимаю что нет никаких простых
людей, и нет никакой разменной монеты — все все видят, у всех есть
возможность принимать решения за себя. Вот и принимают — те или
иные. az118: Снегов против Стругацких.
az118: Снегов против Стругацких.Третья книга (1977) трилогии Снегова "Люди как боги" направлена против повести Стругацких "Пикник на обочине" (1972), где люди - лишь муравьи, случайно попавшиеся на пути могущественным сверхсуществам, которым до муравьев нет дела, а у Снегова люди - молодые боги, попавшие в область деятельности старых богов и ставшие для них кроликами при трудности старших спасти мир.
 russhatter: Если почитать
исторические описания того, как происходила эпоха Возрождения,
очень убедительно видишь отморозков. Сначала отморозки, с
разрушенной прежней картиной мира, с дикой этикой без башни, и
кто-то из них "выигрывает" свой вечный бой. Потом эти ребятки на
своё наворованное ставят себе золотые унитазы, а ещё нанимают
искусных мастеров — и вот они-то и открывают новый уровень. Не так
уж цинично — в сравнении с реалиями.
russhatter: Если почитать
исторические описания того, как происходила эпоха Возрождения,
очень убедительно видишь отморозков. Сначала отморозки, с
разрушенной прежней картиной мира, с дикой этикой без башни, и
кто-то из них "выигрывает" свой вечный бой. Потом эти ребятки на
своё наворованное ставят себе золотые унитазы, а ещё нанимают
искусных мастеров — и вот они-то и открывают новый уровень. Не так
уж цинично — в сравнении с реалиями.Ну и этика времени, этика — с ней чёрт знает что. В качестве примера навскидку: вот Шекспир написал пьесу "Два веронца" — ... ну это же кошмар, это про отморозков, а кто там не отморозок — тот без мозгов, там вообще все без мозгов. Критика совершенно обоснованно говорит, что пьесу не ставят сейчас, потому, что в ней слишком много от Возрождения, для нормальных людей это перебор, дикий причем.
 az118: После 17-19-х гг, когда народ
быстро погрузился в кровавый хаос и сын пошел на отца, а брат на
брата, многих мыслящих русских людей охватили пессимизм и
разочарование в народе, обо народ без отца и матери сам по себе
лишь стихия, которую используют фанатики и прожектеры типа
либералов и правых эсеров, свергшее Государя, и большевиков,
свергших либералов и правых эсеров, а потом анархистов и эсеров
левых (эсеры - социалисты-революционеры - уже 20 лет как были также
как и социал-демократы, из которых и вышли большевики-ленинцы и
троцкисты). и верхушка большевиков, как и почти вся прогрессивная
российская и западная интеллигенция, считала русских людей
природными носителями либо анархии, либо реакции, не пригодных для
строительства рая на земле, где не будет неравенства и все станут
интеллигентами-творцами.
az118: После 17-19-х гг, когда народ
быстро погрузился в кровавый хаос и сын пошел на отца, а брат на
брата, многих мыслящих русских людей охватили пессимизм и
разочарование в народе, обо народ без отца и матери сам по себе
лишь стихия, которую используют фанатики и прожектеры типа
либералов и правых эсеров, свергшее Государя, и большевиков,
свергших либералов и правых эсеров, а потом анархистов и эсеров
левых (эсеры - социалисты-революционеры - уже 20 лет как были также
как и социал-демократы, из которых и вышли большевики-ленинцы и
троцкисты). и верхушка большевиков, как и почти вся прогрессивная
российская и западная интеллигенция, считала русских людей
природными носителями либо анархии, либо реакции, не пригодных для
строительства рая на земле, где не будет неравенства и все станут
интеллигентами-творцами.однако в действительности Маркс, стремясь решить проблему отчуждения в массовом городском обществе, существовавшем в позднюю Античность, эпоху Возрождения и Новое время, которому Маркс принадлежал, извратив диалектику Гегеля, разрушил триаду Всеобщее-Особенное-Единичное, низведя ее в чаемом коммунизме до диады Всеобщее-Единичное, Масса-Индивид в пользу свободного Индивида в Массе как однородной ассоциации свободных равных творческих Индивидов, без необходимого разделения труда (половозрастного или сословного) в Особенном, без которого никакое общество нежизнеспособно.
Но в этом он следовал подспудному мотиву самого буржуазного сознания и его подсознательного, пораженного нигилизмом в форме прогрессизма, в начале прошлого века наиболее радикально выраженного в большевизме, а в наше время в западном неолиберализме, включающем неомарксизм.
Алексей Рысаков. При сохранении субъект-объектной парадигмы женщине приходится думать в ней, ставя себя на место субъекта (отсюда, кстати, и радикальный феминизм в том числе). И в итоге и мужчина субъект и женщина субъект и начинается соперничество, ну либо мужчина становится объектом, но это уже другая история)) поэтому без изменения или хотя бы осознания позиции субъект-объектного понимания мира ничего толком не получится.
Мир окружающий нас выстроен по "субъект-объектной парадигме". Все сложнейшие системы управления экономикой, политикой, техникой аналитически построены по этой модели. "Женский мир" всегда (последние несколько тысяч лет по меньшей мере) обитал где-то на обочине, в лиминальном пространстве, и естественно стремился дополнять "мужской мир", но сейчас ситуация меняется маятник бытия качнулся в другую сторону и принцип дополнительности (как бы ни был он хорош или плох) с каждым десятилетием все хуже и хуже работает. "Женский мир" отрывается от "мужского" ("Барби" как раз об этом). И говорить: "стопэ, девчонки, притормозите, давайте мужиков поддержим, а то все в тартарары полетит" может и правильно, но бесперспективно.
Интерсубъектные отношения возможны, но только за пределами "субъект-объектной" парадигмы, для начала надо потерять свою субъектность, а потом уже иметь шанс вступить в поле интерсубъектного взаимодействия (в качестве иллюстрации, как Ван Янмин описывает свой мистический опыт интерсубъектности: я посмотрел на свою руку в ней была кисть и кисть была продолжением руки, книга лежавшая на моем столе была продолжением меня, трава под окном, горы на горизонте, весь мир был продолжением меня самого (自我)).
|
|
</> |

 Ravenclo – гармония стиля и производства поможет в создании уникального мерча
Ravenclo – гармония стиля и производства поможет в создании уникального мерча  Немного романтики (неземной)
Немного романтики (неземной)  И о приоритетах...
И о приоритетах...  Лаванда и бабочки
Лаванда и бабочки 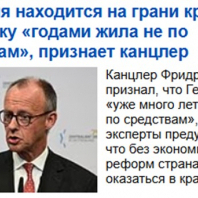 Полезный идиот Мерц заявил, что Германия живет не по средствам
Полезный идиот Мерц заявил, что Германия живет не по средствам  Красный барон
Красный барон  С Днём учителя 5 октября!
С Днём учителя 5 октября!  «Всё просчитано»: Кедми объяснил, зачем Россия продаёт странам НАТО ресурсы для
«Всё просчитано»: Кедми объяснил, зачем Россия продаёт странам НАТО ресурсы для  Плавание с кашалотами - главное приключение на острове Маврикий
Плавание с кашалотами - главное приключение на острове Маврикий 



