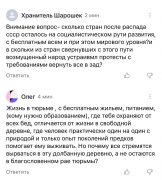История без конца
 chipka_ne — 20.04.2021
chipka_ne — 20.04.2021
Вообще-то в первый год моей работы Нава закончила рассказ о Зосе на апреле 1945 года, на освобождении Берген-Бельзена. И закончила очень невесело. Потому что перед этим они с Зосей поссорились. Даже хуже. «Поссорились» — это такое смешное девчачье понятие из прежней жизни, там всё куда серьёзнее было и горше. Поэтому Нава поставила на весне 45-го года точку — кончена история, забыто.
Последние месяцы существования лагеря описать невозможно. Война неуклонно шла к концу, поражение Германии было очевидно, где-то на обочине сюжета те, кто сохранил ещё остатки здравого смысла, пытались о чём-то сторговаться с союзниками, а лагерь продолжал функционировать — и тут уместнее сказать не «жил своей жизнью», а «умирал своей смертью» — не требовались ни газовые камеры, ни расстрелы, ни экзекуции, тиф косил людей тысячами, зловоние от тел, которые не успевали уже захоронить стояло в воздухе плотной пеленой, но в этом запахе весны и смерти упорно ходили по лагерю слухи о тайных переговорах и о добровольной передаче лагеря союзникам. Надежда витала в воздухе вместе с неистребимым трупным запахом.
Можем ли мы представить себе, как люди выживают в аду?
Прачечная команда в эти дни ещё прочнее сплотилась вокруг своей маленькой ребецен Чарны, которая, несмотря ни на что, выцарапывала и выцарапывала на стенке дни еврейского календаря. На исходе зимы отметили Пурим. Книгу Эстер наизусть, разумеется, никто не знал, даже Чарна, но уж сюжет-то в подробностях и с комментариями она могла пересказать. Пересказывала для всех на идиш, разумеется. Поздно ночью, шопотом, по очереди дежуря у входа, и прерываясь, как положено, каждый раз, когда тем же страстным шопотом проклинали Аммана, потомка амалекова.
Зося лежала тихо, не спала, не реагировала, только сверкала с нар зелёными своими глазищами. Идиша она не понимала, поэтому Чарна заранее рассказала ей об Эстер и Мордехае по-польски. Она слушала даже с интересом — думала сначала, что речь пойдёт о прекрасной Эстерке и короле Казимеже, но и про древнюю Персию оказалось увлекательно.
— Ты что ли совсем Библию не читала? — удивилась Чарна.
— Папа говорил, что это всё сказки, и мифы Древней Греции
куда интереснее, — пожала плечами Зося, — а в школе меня от уроков
Закона Божьего освободили, мне ещё все колежанки завидовали, потому
что ксёндз был такой зануда! Я однажды к соседке по парте в
катехизис заглянула — ужас, какая белиберда! Хотя — когда им
конфирмацию делали, все в белом, как невесты, в костёле орган
играет, я с улицы смотрела и немножко завидовала, но папа сказал,
что религию можно уважать, и свою, и чужую, а мы уже живём в мире
науки, и нам это не нужно.
И, знаешь, я думаю, что твоя история — это легенда. Как про Эстерку
и Казимежа. Или как про Орфея и Эвридику — хотя ты про них не
читала, наверное?
— Это не легенда! — почти рассердилась Чарна, — евреи это чудо веками празднуют! И мы вечером отпразднуем, вот увидишь!
Зося посмотрела на неё неожиданно холодно и внимательно. И сказала коротко:
— Я устала...
А наутро в Пурим они проснулись в выстуженном ледяном бараке, трясясь от холода, и надо было выносить переполненный бак с нечистотами, барак стонал, вздыхал, кашлял, переругивался, дрожал перед построением, а одна из женщин никак не могла встать, трясло её, и она отталкивала упрямо протянутую ко лбу руку соседки — не жар у меня, не жар! я здорова! я встану! — а все смотрели на неё с привычным ужасом и отодвигались, и тут Зося ещё раз глянула на Чарну пустыми, неживыми глазами и сказала, усмехнувшись криво:
— Праздник у вас сегодня, говоришь?
И от этого «у вас» передёрнуло Чарну. И тоска накатила смертная, и апатия, и внезапно расхотелось жить и двигаться, как это не раз бывало...
Очнулась она, когда мрачная капо дала ей тычка и напомнила шопотом:
— Ребецен! Календарь твой на сегодня!
Она кивнула и нацарапала в уголке за нарами — адар, йуд-далет, четырнадцатое адара, год 5705 от сотворения мира... у нас. И всё время чувствовала спиной пустой и жёсткий Зосин взгляд.
...Она справилась с этим. Она заставила себя вспомнить, как пыталась расспросить Зосю о том, как ей удалось выжить в Аушвице. И тогда впервые увидела эту кривую усмешку, такую жуткую на светлом фарфоровом личике:
— Выжить? Я не выжила. Я туда приехала мёртвая. Я ещё в Варшаве умерла.
...После Пурима они готовились к Песаху — еврейский цикл праздников расписан жёстко. И каждый раз, когда нападала апатия, Чарна заставляла себя вспомнить мамины упрямо поджатые губы перед последним Песахом: «У меня дома к Песаху будет чисто! не дождутся!»
Чистить в бараке было особо нечего, занимались в основном тем, что экономили хлеб (то, что называлось в лагере хлебом) и обменивали сэкономленное у нееврейских заключенных на картошку и овощи про запас. Сушили свёклу — потом в Песах заварят кипятком и поставят подкрашенную воду на стол вместо вина. Вместо мацы тоже решили насушить пластинки картошки.
Зося за их приготовлениями следила молча, а Чарна, помня разговор о Пуриме, тоже молчала.
А перед трапезой пасхальной (даже блюдо пасхальное нарисовали на куске картона), Зося вдруг села на нарах и мрачно потребовала:
— Расскажи! Что вы будете делать? Я знать хочу! Я понять хочу!
Чарна не знала, с чего начать.
— Ты про фараонов в Египте слышала? Про египетский плен?
— Конечно! — почти со злостью огрызнулась Зося, — я же в гимназии училась, не то что... — она спохватилась, потупилась и продолжила, — я и «Фараона» читала. Болеслав Прус — слышала про такого писателя? Там у молодого фараона была любовь с еврейкой, Сарой, потом у неё убили ребёночка, а она умерла от горя, я так плакала! Это про них? ты это тоже читала?
Нет, вот этот роман начитанной Чарне как-то не попался. Как и Зосе — библейская история исхода. Которую Чарна и попыталась ей рассказать, как могла, коротко. И про праздник. И про пасхальную трапезу. Про хамец и про мацу, которой у них нет, к сожалению. И про мамину последнюю уборку.
И предупредила, что в ближайшую неделю вместо хлеба будет картошка.
Зосю не должно было это волновать. Она была в каком-то смысле счастливее всех остальных в бараке — у неё совершенно атрофировалось чувство голода. Ела, потому что заставляли. Вкуса еды не чувствовала. Жевала медленно и осторожно — болели дёсны и разрушенные зубы. Почти никогда не доедала до конца, только с уговорами.
И вдруг, услышав про то, что хлеба не будет, вскинулась:
— Как это? А если я хочу!
— Ничего не поделаешь, примирительно сказала Чарна, — хлеба уже не будет у нас в бараке. Но ты не волнуйся — мы картошки и овощей запасли достаточно. Да и лучше тебе варёную картошку для зубов. Недельку всего...
— У вас??? — Зося взвизгнула так, что тут же сорвала голос и
продолжила сиплым шёпотом, — а если я не хочу, как «у вас»!!! А
если мне дела нет до этого??? Я хлеба хочу! Хлеба! Почему я должна,
как «у вас»???
Я вас знать не знала, откуда вы взялись все? Я была такая
счастливая, мы так жили хорошо, нас все любили, мы жили, как все,
это вы все — ненормальные! гадкие! со своими этими песахами! у вас
всё не так, как у людей! А из-за вас... и нас... и папу... и
маму... Из-за вас меня ненавидели и убивали! Будьте вы прокляты
все!
...К счастью, она ослабела быстро, истерика закончилась обмороком и тревожным полусном с мелкой дрожью.
В вялом полусне она и провела почти всю пасхальную неделю.
И Чарну заразила этим полусном, хоть Чарне и приходилось вставать и работать до изнеможения.
А на Зосю она боялась смотреть. Кормила-поила, разминала картошку и старалась не думать, точнее, не чувствовать, чтобы не бередить обиду, страшную, горчайшую обиду, которая сидела занозой в сердце и никуда не девалась. Как никуда не девалась, вопреки всякой логике, и щемящая жалость.
Когда кончился Песах, она принесла Зосе первый кусок хлеба. Нашла в себе силы улыбнуться:
— Соскучилась? не будешь больше кричать?
Зося отломила мякиш и равнодушно начала жевать. Потом попросила воды — размочить. Доела с трудом.
Потом ночью началось. Опять сиплый шёпот: «Чарна, Чарна!»
Чарну шатало от недосыпа и усталости, но она вскинулась, обняла и стала мурлыкать что-то успокаивающее: «Вляз котик на плотик...»
Зося замолчала, успокоилась, а потом высвободилась, легла на спину, уставилась сухими глазами в потолок и сказала:
— Я что-то рассказать хочу. Будешь слушать?
...Фотографию эту — она под матрасом, помнишь? Ты никогда не
спрашивала, как я её достала и сохранила... и когда меня в Аушвиц
отправили...
Ну, после того, как Милли убили, а Магда меня
прокляла.
Утром отправили, и меня, и всех евреев, кого откуда повытаскивали и нашли.
А меня перед этим на ночь в камеру бросили. Только не ко всем. К полякам, уголовникам...
— Не надо! — взмолилась Чарна, — Зосенька, сердечко моё, не надо! Не вспоминай, пожалей себя!
Зося ответила коротким сухим смешком, похожим на кашель:
— Какая ты нежная... А нечего вспоминать, не бойся. Толку от меня им не было. Там один был, за старшего который — только он и... попробовал. И не понравилось ему — повезло мне... Так и сказал: тебя из трупарни привезли, что ли? Знал бы, лучше б подрочил...
Это так жутко звучало из беззубого, но всё ещё нежного ротика, что Чарну передёрнуло от ужаса, и Зося это заметила.
— Ну, что ты вздрагиваешь? Спасибо ему — их это так насмешило «из трупарни!», что больше меня не трогал никто — хорошо же, нет? Даже пить предлагали и укрыли чем-то... Но я всё равно заснуть не могла, странно да?
...А утром выхожу к грузовику, а там вчерашний офицер стоит. И, знаешь, тоже не выспался — видно ночевать в конторе пришлось. Я дрожу и зеваю, а он на меня глянул и тоже зевнул — прямо смешно, нет? Тебе не смешно? А он улыбнулся и говорит на своём ужасном польском: «паненке не спалось, да?»
Потом стал проверять всех по списку. А на меня у него прямо отдельная папка была почему-то. И перед тем, как я в грузовик поднялась, он меня окликнул — отклеил что-то из папки и протягивает мне. И опять говорит с таким смешным акцентом: «на пямять! от любимой учительницы!» — это Магда, оказывается, им фотокарточку нашу принесла, с собой она её что ли носила? Здорово — как она меня помнила-то, а?
...Только карточка испортилась потом — в лагере в душе мне её спрятать некуда было, так и держала скомканную в кулаке, потом расправляла, расправляла... Но меня хорошо видно, правда? И костюм цыганский — мама у хорошей портнихи заказывала... Только Милли плохо вышла, бедная собачка...
Она помолчала немного и вдруг сказала совершенно спокойным голосом:
— Давай спать, — и заснула мгновенно, точно кто-то выключил её.
Подходил к концу месяц нисан. Чарна не забывала записывать дни. И в дополнение — вести счет дней омера.
— И знаешь, — говорила она мне, — только не смейся — это помогало. Когда жить нет сил, но надо запомнить и записать. Потому что я так решила однажды. Потому что меня хотят выбросить из времени, из МОЕГО времени, а я не дамся... И надо не ошибиться, и не забыть благословить начало месяца.
Вскоре она благословила начало месяца ияр. А второго ияра в лагерь вошли англичане.
Зосю — бледную, прозрачную, бесплотную — почти сразу забрали в госпиталь. Женщины рассказывали. что когда румяный застенчивый санитар осторожно, чуть не плача, помогал перекладывать Зосю на носилки, она вдруг слабо улыбнулась и сказала несколько слов по-английски. Санитар радостно шмыгнул носом и разулыбался. Чарны не было на тот момент в бараке, а ждать её, чтобы попрощаться, никто не стал.
А фотографию Зося так и забыла под матрасом.
|
|
</> |

 Покупка робуксов в 2024 году: проверенные способы, советы по безопасности и методы экономии средств
Покупка робуксов в 2024 году: проверенные способы, советы по безопасности и методы экономии средств  LGB Trains
LGB Trains  С точки зрения народонаселения наш мир выглядит так
С точки зрения народонаселения наш мир выглядит так  Почему любимая дочь Петра I прожила всего 20 лет, но именно её потомки
Почему любимая дочь Петра I прожила всего 20 лет, но именно её потомки  Неадекват в кофейне )))
Неадекват в кофейне )))  Фертильные нацменьшинства Китая
Фертильные нацменьшинства Китая  Чем приличной женщине заняться в выходные?
Чем приличной женщине заняться в выходные?  Пермь. Сибирская улица и Компрос
Пермь. Сибирская улица и Компрос  Котовасия
Котовасия