Башня. Новый Ковчег-6. Эпилог. Часть 5 и... последняя
 two_towers — 12.03.2025
two_towers — 12.03.2025
…иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жёны сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле…
Голос старого учителя, негромкий, но очень проникновенный зазвучал в голове Анны, и она на какой-то миг мысленно перенеслась почти на полвека назад, в маленькую школьную комнату для занятий, увидела перед собой ряды одинаковых парт, маленькие неудобные стульчики.
Ей снова было двенадцать лет, жёсткие непослушные волосы топорщились из плохо заплетённой косы, болела разбитая на физкультуре коленка. Мягко шуршали страницы бумажной книги, к ним хотелось прикоснуться ладонью, поймать застывшее в них тепло, но она не смела, только следила глазами, как Иосиф Давыдович аккуратно переворачивает прочитанную страницу, любовно разглаживает, поднимает глаза, и улыбка разбегается по лицу лучиками мелких морщинок.
Она видела это всё как бы со стороны и одновременно была там, в том маленьком классе. Слышала отрывистое Пашкино дыхание, ловила скептические ухмылки Борьки. И снова звучали слова Вечной Книги, облачённые в голос старого учителя.
Анна встряхнула головой, и видение рассеялось. Остались только добрые и мудрые глаза Иосифа Давыдовича, наблюдающие за ней со старой потрескавшейся фотографии на потемневшем от дождей и ветра деревянном кресте. Она наклонилась, достала приготовленную дома чистую салфетку, бережно протёрла пыльный пластик. Ей показалось, что Иосиф Давыдович благодарно улыбнулся ей с фотографии.
Рядом возился Павел. Перемешивал кисточкой краску в банке, задумчиво оглядывая старую оградку с кое-где облупившимся покрытием. Борис стоял рядом, на деланно равнодушном лице играла знакомая полуулыбка-полуухмылка. Когда он последний раз был здесь с ними? Кажется, года три назад или даже больше — Литвинов не любил кладбище.
Анна выпрямилась, заправила за уши мешавшие ей волосы, медленно принялась закатывать рукава рубашки, поглядывая на дорогу, которая хорошо была видна отсюда.
Могила старого учителя, первая на их городском кладбище, — с неё собственно всё и началось, — располагалась чуть в стороне от всех остальных, на небольшом пригорке. Два года назад Павел с Гришей посадили здесь берёзку с кленом, два тоненьких юных деревца, которые отчего-то напоминали Анне двух влюблённых подростков, неловко и смущённо касающихся друг друга руками-веточками. Сейчас деревья уже выросли, окрепли, берёзка тянула к солнышку кудрявую макушку, чуть присыпанную сентябрьским золотом, а кленок отставал, как отстают в росте мальчики по сравнению с вечно их во всём опережающими девочками, но они по-прежнему держались за руки, переплетали свои ветви, и меленькие листочки берёзки утопали в широких резных ладонях клена.
Анне хотелось верить, что Иосиф Давыдович видит всю эту красоту: и тоненькие деревца, и солнце, запутавшееся в зелени листьев, и синь высокого неба, и пыльную дорогу, обвивающую пригорок. Всё видит, как увидел это однажды в миражах, поднимающихся туманными картинами над обнажённой и страшной в своей наготе землёй.
— Анечка, мне бы хоть глазком взглянуть. Хотя бы одним…
Она помнила, как он сказал ей это. Даже не сказал — прошелестел, слова, уже невесомые, слетели с его дрожащих губ тихим облачком, повисли в тишине пустой палаты. Она сидела на стуле, рядом с кроватью, держа на коленях книгу. Теперь не он, а она читала ему. Читала каждый вечер, понимая, как немного уже их осталось, этих вечеров.
— Анечка, хотя бы одним глазком…
Она поняла его так и невысказанную просьбу, потому что между ними уже давно установилось что-то, даже крепче чем просто связь между учителем и ученицей. Потому что привыкла угадывать его малейшие движения и желания.
— Конечно, Иосиф Давыдович, конечно. Паша всё сделает. Не волнуйтесь.
Обещание вырвалось само, хотя Анна совсем не была уверена, что Павел согласится, не отмахнется от неё, не спишет желание их учителя на стариковские причуды. Она бы не осудила Павла, откажи он ей тогда — видела, как он мечется, как устаёт, с тревогой ловила иногда отчаяние в любимых серых глазах, знала, что процесс освоения земли идёт далеко не так гладко, как хотелось, — но Павел согласился. Он всё понял. И на её сбивчивую речь только молча кивнул: всё сделаем, Аня, всё организуем, не переживай.
Павел сам вынес Иосифа Давыдовича. Вынес на руках, бережно, как любимое дитя, усадил в подготовленное инвалидное кресло, медленно — колеса увязали в мокром песке — вкатил на одну из сопок.
Анне стало страшно. Она, как и Иосиф Давыдович, тоже в первый раз вступила на землю, и то, что она видела перед собой, наводило тоску и уныние. Их словно забросили на необитаемую, непригодную для жизни планету, где слепило солнце, ноги утопали в грязи, а холодный ветер, зло хохоча, швырял пригоршнями мелкий колкий песок. Она с тревогой посмотрела на старика, но лицо Иосифа Давыдовича было спокойным и умиротворённым. И она каким-то шестым чувством поняла, что старый учитель видит перед собой нечто другое, большое и таинственное, что не каждому под силу разглядеть.
Павел присел перед стариком на колени, бережно поправил сползший плед.
— Не холодно, Иосиф Давыдович?
Старик не ответил. Улыбаясь и всё ещё глядя перед собой, он тихо произнёс:
— Как же здесь красиво, Паша…
— Да, очень красиво.
— Лес, речка и поле… поле с одуванчиками.
— …и поле с одуванчиками, — повторил за Иосифом Давыдовичем Павел.
Анна сначала подумала, что Павел просто не желает расстраивать их учителя, произнося вслед за ним эту нелепицу, но потом поняла. Они оба — и столетний старик, и этот сорокапятилетний мужчина, бывший для Анны всем, её любовью и её миром — они оба действительно всё это видели. И быструю речку, в прозрачной воде которой у берега плещутся мальки, и высокие сосны, гудящие на ветру, и уходящую вдаль дорогу, над которой клубами поднимается сонная пыль, и поле… огромное одуванчиковое поле, тянущее к солнцу золотые ладони.
— Паша, у меня к тебе есть ещё одна просьба, — морщинистая рука накрыла ладонь Павла. — Не сочти за стариковский каприз, но… нельзя ли меня похоронить на земле? Если это возможно, конечно.
Павел просто кивнул. И Анна поняла — он исполнит последнюю просьбу их старого учителя.
На следующий день Иосиф Давыдович умер — тихо, во сне. Словно всю свою жизнь дожидался этого момента, как в Библии, когда Бог сказал Ною: выйди на землю…
— И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жёны сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле…
Анна вздрогнула. Павел проговорил эти слова тихо, глядя куда-то вдаль, словно там, на небе ему открылись начертанные памятью строки.
— Эка ты шпаришь, Паша, как по писаному, — насмешливо проговорил Борис. Он хоть и стоял в нескольких метрах, но всё слышал. — Только не говори мне, что ты ударился в религию и по ночам штудируешь Библию.
— С детства в память врезалось, — немного смущённо ответил Павел. — Даже не знал, что всё это запомнил.
— Так я тебе и поверю. Небось воображаешь себя Ноем, спасителем человечества.
— Иди ты, Боря, к чёрту! Лучше помоги мне, бери кисть. Давай-давай, не отлынивай.
Борис нехотя приблизился, взял вторую кисточку, обмакнул её в краску, поморщившись от резкого, неприятного запаха, провёл пару раз по ограде. Капелька упала на ботинок, и Борис раздражённо выругался.
— Вот что ты за человек, Паша, — пробурчал он. — Нагнал бы сюда молодёжь или кого-то из рабочих, тебе бы за десять минут тут всё в порядок привели. Нам кистями махать не по чину, да и не по возрасту.
Павел промолчал. Сделал вид, что не заметил язвительно-саркастический тон. Продолжал аккуратно водить кисточкой по ограде.
Анна понимала, почему Павел всё делает тут сам. Да и Борис, конечно, тоже понимал, просто, как обычно, подкалывал друга, насмешничал. В этом был весь Борька Литвинов — его не переделать. Да и не надо.
Борис, не дождавшись ответа, вздохнул и обречённо заработал кистью.
— Вот что ты за косорукий, Боря, — проворчал Паша. — Как ты краску кладёшь? Надо равномерно размазывать.
— Не нравится, найми маляра, — огрызнулся Боря. — Извини, красить заборы не обучен.
— Да прекратите вы, нашли место, — осадила их Анна.
Она смотрела на этих взрослых, облачённых властью мужчин, которые переругивались словно подростки, и думала: как так получается? Ведь видит она и морщины на лицах, и посеребрённые сединой волосы, а перед внутренним взором всё равно — те мальчишки, с которыми они сбегала с уроков, пробиралась без билета в кино и делилась своими детскими горестями и мечтами. Она знала — в каждом из них сидел этот мальчишка, и сколько бы лет им не исполнилось, он навсегда там, внутри…
— А помните, — неожиданно для себя произнесла она. — Помните, как Иосиф Давыдович читал нам про потоп и про Ноя, а мы спорили.
— А то! — тут же оживился Борис. — Помнишь, Ань, Пашка перед нами распинался, доказывал, что главное — это наша Башня. Как ты там, Паша, говорил? В ней есть всё, что нужно человечеству, и мы проживем тут хоть тысячу лет… И что? Вон она стоит, дура, ветшает.
Борис качнул головой в сторону, где вдалеке тёмным расплывчатым пятном возвышался громоздкий силуэт Башни, почти сотню лет служившей им ковчегом.
— А выходит, ошибался ты, Паша. А ты, Ань, говорила про людей. Главное — это человек. И тут, конечно, сложно спорить. Особенно если это такой человек, как совесть и светоч нашей нации, Павел Григорьевич Савельев, который сильной рукой ведёт человечество к светлому будущему. А победи тогда Ставицкий — тоже, между прочим, человек — тут-то бы и хлебнули мы по полной. Человек, Аня, человеку рознь. Так что оба вы были неправы, друзья мои.
— Ну, понеслось, — Павел недовольно посмотрел на друга. — Ты от работы-то не отлынивай, Боря. Крась давай, демагог хренов.
— Нет, ну действительно, — Борис нехотя наклонился над оградой, провёл разок кистью. — Вот ты, Паша, жизнь свою положил на служение Башне и людям. Прадед твой начал — создал Башню, населил её людьми, спас несколько миллионов от смерти. А ты закончил — вывел всех на сушу, как тот Ной. А приди к власти другой правнук Андреева, передохли бы все без электричества, и уж точно всего этого бы не было: ни города, ни посёлков, ни лесопилки… Вот и получается, что ты у нас, Паша, герой, и дело вовсе не в конструкции железобетонной, и не в человечестве как таковом, а в той личности, которая стоит у руля.
— Глупости ты говоришь, Боря, — ответил Павел. — Я что, один всё это создал? Один тот переворот совершил? Один всех одолел? А Долинин со своими людьми? А Островский? А народ на станции? И знаешь, если уж на то пошло, то со Ставицким лично вообще-то не я расправился. Меня там и близко не было. Зато вот ты…
— Ой, давай вот только без этого, — Борис болезненно поморщился, наклонился, делая вид, что стирает капельку краски с ботинка.
Анна с Павлом быстро переглянулись. Анне даже показалось, что на лице мужа промелькнула улыбка.
Они уже давно заметили, что Борис не любил вспоминать то, что произошло на станции в тот день. События, случившиеся четырнадцать лет назад, как будто что-то повернули в нём, привнесли новое или же наоборот — словно острым ножом срезали слой тщеславия, обнажив то настоящее, что когда-то и рассмотрели в нём двое двенадцатилетних детей, мальчик и девочка, и что сам Борис старательно прятал ото всех, принимая за слабость. Так бывает нередко: человек выставляет на показ свои пороки, стыдясь собственной силы.
— Хорошо, не буду, — улыбнулся Павел. — Все победили. Все мы вместе. И я, и ты, и Саша Поляков, и Анна, и Маруся, и Ника, и Марат. И Гоша Васильев с Кириллом. Каждый внёс свою лепту. А в одиночку никто бы не смог. Потому что… вот ты задумывался когда-нибудь, почему проиграл Серёжа?
— Потому что псих был, — Борис распрямился и поглядел на Павла.
— Нет. Не поэтому. А потому что один остался. Да в сущности он всегда был один, с самого детства. И мне его в общем-то жаль.
— Ну началось, — закатил глаза Борис.
— Да погоди-ты. Я не договорил. Серёжа к людям, как к инструменту относился. Вон как к кисточке, что ты в руках держишь, или как к лопате, — Павел кивнул головой в сторону лопаты, воткнутой в землю. — А люди — не инструмент. В людей надо верить. И тогда они за тобой пойдут. В огонь, в воду, на землю, с которой только что схлынул океан, и глядя на которую хочется то ли рыдать, то ли молиться. Пойдут, Боря. Пойдут.
— Ну да, — не желал уступать Борис. — Сколько там у нас в Башне до сих пор народу сидит? Пятьдесят тысяч? Сто? Сидят ведь, Паша, носа не высовывают. Вспоминают былое, обиды копят. На тебя в первую очередь и копят. Бельская, Барташова… осколки великих семей. Да и простые обыватели. А ты на них ресурсы тратишь. Пойдут они за тобой? Или вон те, кто у тебя на солончаках работает — воры, убийцы и насильники. С которыми Островский богоспасительные беседы проводит в перерывах между трудотерапией. Эти, хочешь сказать, за отечество жизнь положат? Они тебя скорее положат, чтобы свои звериные порядки здесь установить. Нет, Паша, человек человеку рознь. И я даже иногда грешным делом думаю, а так ли уж неправ был твой чокнутый кузен…
Борис произнёс свою тираду на одном дыхании. И чем больше он говорил, тем больше хмурился Павел.
— Тебя, Боря, куда-то не туда, я смотрю, заносит, — он всё-таки не выдержал, попытался прервать разошедшегося Бориса. Но того было так просто не остановить.
— Нет, ты послушай, — Борис отложил кисть в сторону, расправил плечи. — То, что Ставицкий решил делить людей по происхождению — это, конечно, бред. Тут я даже не спорю. Но и равнять какого-нибудь узколобого алкаша или вора с солончаков и, к примеру, Гошу Васильева, талантливого инженера и изобретателя, светлого и доброго человека — это тоже неправильно. Вот если бы существовал способ отделить одних от других. Нет, ну есть же люди умные, а есть — не очень. С этим-то ты спорить не будешь? Есть те, для которых высшая справедливость — это основа жизни, как для нашего несгибаемого генерала Островского, а есть те, которые всё копеечку свою и выгоду считают, а ради своего огородика и подворовывать будут. Люди, Паша, в общей массе слабы и глупы. И если не найдётся среди них лидер вроде тебя, то даже страшно себе представить, куда их занесёт. Вот и получается, Паша…
— Дурак ты, Боря! — Павел тоже отложил кисть. — Это тебя сейчас занесло непонятно куда. Ты соображаешь, что говоришь?
Анна тоже с удивлением посмотрела на Бориса. Что это на него нашло? Но тут же заметила знакомых кривляющихся чертенят в зелёных насмешливых глазах. Вот же, дурак! Никак не успокоится. Внуки у оболтуса уже подрастают, а ему всё неймётся.
Борис перехватил Аннин понимающий взгляд, весело подмигнул — не вмешивайся, Аня. Совсем как в юности, когда ему попадала шлея под хвост, и он начинал подначивать Павла, выводить из себя, нагромождая нелепые теории. Что-что, а демагогом он был отменным. А Пашка всегда вёлся, горячился, злился, начинал доказывать другу обратное. Он и сейчас повёлся.
— Люди — это не стадо, которое может повести кто угодно и куда угодно. Как ты не понимаешь? Да, люди разные. И в каждом из нас всего понамешано. И во мне, и в тебе. Сам знаешь, не святые мы. И люди не святые, и слабостей полно. И дураки есть, и трусы, и подлецы. Только не это главное. Неужели ты думаешь, что погибни тогда мы с тобой, остальные бы покорно пошли за Ставицким? Не пошли бы. Нашлись бы другие. Островский, Мельников, Величко… сотни, тысячи людей. Может быть, это стоило бы человечеству большей крови, кто знает. Но люди всё равно пришли бы к этому.
Павел обвёл взглядом окрестности — далёкий силуэт Башни, уходящую за горизонт тайгу, их город, хаотичное, на первый взгляд, нагромождение построек.
— Нет, Боря. Люди — не стадо. Люди — это общество, социум, если хочешь. И общество это развивается, идёт по пути прогресса. И если и появляются там личности, которых случай выносит наверх, и которым приходится брать на себя тяжкую ношу ответственности, то это не их заслуга или награда. Это их крест. И оступись я, не выдержи, мой крест подхватишь ты или кто-то другой. А если даже вдруг к власти и придёт кто-то, вроде Серёжи, то история всё равно сделает круг и вернёт всё в исходную точку. Потому что любое общество будет развиваться, двигаться вперёд, к вершине. И никакой одиночка не сможет этому помешать. А людей, Боря, надо любить. Вот таких, какие они есть. Со всеми их слабостями и недостатками. Это чертовски трудно, иногда просто невозможно. Но надо. И если ты этого не понимаешь…
— Ну, разошёлся, — Борис, посмеиваясь, смотрел на Павла, а в глазах чертенята уже не просто кривлялись — они пустились в пляс, выделывая замысловатые кульбиты. — Как на митинге. Успокойся, Паша, тут аудитории нет, оваций не будет, не расходуй своё красноречие понапрасну.
Павел внимательно вгляделся в лицо друга.
— Дурак ты, Боря, — догадался наконец-то, устало махнул рукой. — И я тоже дурак, что поддался на твою провокацию. Вот как так у тебя получается? Что только не придумаешь, чтобы ограду не красить.
— А когда мне ещё доведётся такую духоподъёмную речь послушать? — ухмыльнулся Борис. — Хороший ты оратор, Паша, даже меня проняло. Всё веселей, чем кистью махать.
— Врезать бы тебе… Давай, крась, осталось немного. Нет, ну вот что ж ты всё никак не успокоишься?
— А что? Зато прослушали целую речь о том, что самое важное. И пришли к выводу, что главное — это не Башня и не человек сам по себе. А люди в целом. И эту глубокую мысль озвучил нам не кто-нибудь, а сам нравственный ориентир и совесть нации Павел Григорьевич Савельев, собственной персоной. Когда ещё так повезет, правда, Ань? — Борис подмигнул Анне.
Анна рассмеялась, и её смех подхватил Борис. Павел, недоумённо глядя на своих друзей, тоже не выдержал, зашёлся в хохоте. Они смеялись все втроём, заразительно, как можно смеяться только в детстве, когда кажется, что весь мир лежит у твоих ног. Смеялись, не в силах остановиться. А с фотографии на них смотрел Иосиф Давыдович и улыбался.
Борис прервался первым. Он словно споткнулся и замолк, уставившись на что-то за спиной Анны. Его лицо недоумённо вытянулось.
— Чёрт, а это ещё что за кавалькада?
Анна обернулась, от неожиданности выронила тяпку, которую достала, пока Павел толкал свою духоподъёмную речь, бросила быстрый взгляд на мужа. На лицо Павла набежала мрачная тень, глаза потемнели, а с губ уже готово было сорваться ругательство. Анна его понимала, как понимала и то, что сейчас ей вряд ли удастся сдержать его гнев.
Прямо по дорожке, что вела к холму, на котором они стояли, в клубах поднимающейся пыли неслись два велосипедиста. Вернее, это велосипедов было два, а вот тех, кто с отчаянно-весёлым гиканьем приближался сейчас к кладбищу, было трое, и Анне не нужно было присматриваться, чтобы понять, кто это. Одним велосипедом, тем, что вырвался вперёд, управляла Варька. Она летела во весь опор, наклонившись и почти вжавшись в руль, маленькие ноги с бешеной скоростью крутили педали, растрёпанные волосы развевались над головой светлым нимбом. Следом за ней, отставая буквально на пару метров, нёсся Гриша. За его спиной голубел знакомый летний сарафан — Майка Мельникова.
— Паша, твой Паганини что, самоубийца? — Борис не глядел на Павла. Он по-прежнему не отводил взгляда от дороги, по которой стремительно мчалась развесёлая троица.
— Похоже на то, — процедил Павел.
А дети между тем уже достигли подножия пригорка. Варька первой соскочила с велосипеда и, не дожидаясь остальных, быстро побежала вверх по тропинке.
— Папа! Дядя Паша! Тётя Аня! — Варькин высокий голос звенел от восторга, взмывая вверх радостной и ликующей птицей. — Дядя Паша! Папа! Папа…
Через минуту вся троица, красная и запыхавшаяся, стояла перед ними. С чумазых физиономий (даже у аккуратной Майки на щеке чернело размазанное пятно, а про Гришу с Варей и говорить не приходилось) не сходили счастливые улыбки. И, наверно, эта так явственно написанная на детских лицах радость и остановила Павла, сдержала его. Анна видела, он растерялся, тот самый момент, который обычно предшествовал буре, был упущен, и теперь Павел не знал, что делать и как реагировать на это неожиданное появление. Борис опомнился первым, взял ситуацию в свои руки.
— Ну? — он обвёл требовательным взглядом всю компанию. — Рассказывайте давайте, что вас привело. Кроме желания получить по шее.
Варька засмеялась, стала совсем похожа на Марусю, и Борис, глядя на дочь, тут же сам расплылся в улыбке, растеряв напускную строгость. Эта маленькая вертихвостка вила из отца верёвки, но Боре, похоже, всё это доставляло удовольствие.
— Там, папа, на реке, там.., — начала она, но в её речь уже вклинился Гриша, а следом Майка, и они все заговорили разом, перебивая друг друга.
— …на пристани…
— …мы смотрим, а это баржа…
— …а Митя нам говорит…
— …дядя Давид велел всё разгружать…
— …там бочки, папа, во-о-от такие!..
— …Митя сказал…
— …а капитан баржи…
— Стоп! — прервал эту разгулявшуюся вакханалию Павел. — Баржа с Енисея приплыла?
— Да! — хором гаркнули дети.
— Митя Фоменко тоже там?
— Да!
Павел медленно опустился на невысокую скамеечку, сооружённую рядом с могилой Иосифа Давидовича. По его лицу разлилось небывалое облегчение.
— Вот видишь, Паша, — Борис тоже присел рядом, положил руку на плечо друга. — А ты переживал. Приплыл твой Фоменко. Ничего с ним не случилось. Ни с ним, ни с баржей.
— Не случилось, — эхом отозвался Павел. Поднял глаза на детей. — А сам Митя где сейчас?
— А он на пристани остался. Он там с Лилькой целуется, — радостно сообщил Гриша.
— Не с Лилькой, а с Лилей, — машинально поправил Павел и тут же сердито сдвинул брови. Уставился на сына, который, улыбаясь во весь рот, стоял перед ним и почесывал босой грязной ступнёй правую ногу с закатанной до колена штаниной. — А вы чего там делали? На пристани? Я кажется внятно объяснил тебе, где ты должен находиться…
— Павел Григорьевич, не ругайте его, — Майка Мельникова чуть выступила вперёд. Тряхнула прямой тёмно-русой чёлкой. — Гриша же сандалии на речке забыл, и мы… мы решили за ними сходить. Ну съездить на великах. Только за сандалиями. Туда и обратно. Мы поехали на Кедровку, а там баржа. С Енисея плывёт. Ну и мы тоже, за ней. На пристань.
— А там уже Давид Соломонович, — подхватила Майкины слова Варька. — А Митя нас увидел и говорит: дуйте к Павлу Григорьевичу. И велел нам передать вам это. Майка, давай сюда!
Анна только сейчас заметила, что Майка судорожно сжимает в правой руке небольшую, запечатанную пробкой пузатую колбу с чёрной, маслянистой жидкостью. Края стеклянной колбы были испачканы, на Майкиных руках тоже чернели пятна, такие же тёмные разводы были и на Гришиной рубашке, а у Варвары вообще одна прядка волос висела чёрной сосулькой. Не удержались, догадалась Анна. Вскрыли и проверили, сунули любопытные носы.
Она сама не имела ни малейшего представления, что там такое, в этом грязном сосуде, но Павел понял сразу. Вскочил с места, изменившись в лице. Бережно принял из рук девочки колбу и также бережно и аккуратно вынул пробку. Наклонил ёмкость, вылил на ладонь несколько густых, вязких капель с глянцевым, чуть кофейным отливом. Борис тоже поднялся и теперь через плечо Павла во все глаза разглядывал блестящее пятно, медленно расползающееся по широкой ладони друга.
— Паша, это то, о чём я думаю?
— Да, Боря. Это она. Нефть.
— О, боже! — Борис взъерошил волосы, закинул голову к небу. Он словно обращался к тому, кто все эти годы, незримый, присматривал за ними, присутствовал при всех их ошибках и промахах, карал и, карая, прощал, вёл вперёд, иногда помогая, а иногда — просто не мешая. — О, боже! И что теперь, Паша? Что теперь?
— Теперь?..
Павел начал и замолчал. Он глядел прямо перед собой, и его глаза… его глаза говорили о многом. Как в тот день, когда он на руках вынес Иосифа Давыдовича на землю.
— … и одуванчиковое поле, — сказал тогда Павел. Сказал, вглядываясь вслед за старым учителем за горизонт, туда, где над безжизненными сопками, заваленными мусором и кусками уже подсыхающего ила, поднималась к солнцу жизнь. Поднималась шафранным золотом пушистых одуванчиков, пением птиц и шелестом травы, жужжанием майских жуков и лёгким дрожанием крыльев нарядных бабочек, поднималась, вставала в полный рост, заслоняя тесный сумрак помещений, за который все они ещё держались.
Он и сейчас — Анна ничуть в этом не сомневалась — видел перед собой не грязную колбу и не вязкую чёрную жидкость, которая уже просачивалась в мелкие трещинки его ладони, он видел жизнь. Огни городов и шум автострад; высокие трубы заводов и белоснежные морские лайнеры; горы с шапками снега; круглые, как тарелка, лесные озера; уходящие вдаль рельсы железных дорог и стремительный след пролетевшего самолёта, разрезавший небо…
— Теперь, — повторил Павел и задумчиво провёл ладонью по лицу, оставляя на лбу чёрную полоску. Совсем, как та, что была и на лице сына. — Теперь — на Енисей. На Енисей, Боря.
— Действительно, — Борис усмехнулся. — И чего я, дурак, спрашиваю. И так понятно, засиделись мы здесь. Пора в путь.
— Папа, — вдруг подал голос Гриша. — А я?.. А мы? Мы ведь тоже поедем на Енисей, да?
Гришин голос слегка задрожал. Он постарался справиться, выпрямился, вскинул светлую вихрастую голову, и у Анны, глядя на него, зашлось сердце. Он ещё был невысок, её мальчик, почти вровень с маленькой Варькой и чуть ли не на полголовы ниже высокой Майки, прямо как тот молодой клён, который тянулся за своей берёзкой-подружкой. Но в нём уже чувствовалась сила, та самая сила, что была и у его отца, а в серых упрямых глазах, Пашкиных глазах, жила мечта и неукротимое желание идти вперёд.
— Папа…
На секунду Анна испугалась, но напрасно. Павел широко улыбнулся. Посмотрел на сына.
— Конечно, вместе. Только вместе. По-другому не может и быть…
***
Макушки таёжных сосен тонули в розовом дымном закате. Павел докрашивал ограду, рядом, старательно пыхтя, орудовал кистью Гриша. Девчонки рыхлили землю, тщательно прикрывали семена бархатцев, которые весной должны были дать всходы. Борис выравнивал покосившийся крест. А Анна смотрела на фотографию старого учителя и пыталась найти в глазах Иосифа Давыдовича ответы на так и незаданные вопросы.
Что такое человеческое счастье?
Дом? Семья? Или вот это стремление заглянуть за горизонт? Раздвинуть руками кем-то установленные пределы? Что же всё-таки главное? И кто был прав в том далёком детском споре?
Она задавала эти вопросы, понимая, что она не первая и не последняя, кто их задает.
Люди и сейчас, и через тысячу лет, будут терзаться теми же вопросами. Будут спорить, ибо споры эти вечны. И каждое новое поколение будет идти вперёд. Ошибаться и набивать шишки в наивном и восторженном желании изменить этот мир.
Так было, и так будет.
Пока живут на земле люди.
Пока подрастают мальчишки и девчонки, мечтающие о приключениях и о новых землях.
Пока человек стремится к чему-то высокому — непроходимым горам, неизведанному Енисею, небу, покорившемуся самолетам. К всеобщему счастью и справедливости.
*************************************
|
|
</> |

 Мукопросеиватель: чистота, лёгкость и качество теста
Мукопросеиватель: чистота, лёгкость и качество теста  А вот
А вот  Месяц назад: Первомай в Танжере - 1
Месяц назад: Первомай в Танжере - 1  Нормативы для принятия в цыберпунк
Нормативы для принятия в цыберпунк  Ассоль
Ассоль 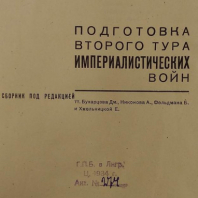 Затянувшийся предмобилизационный период
Затянувшийся предмобилизационный период  В Севастополе новые занятные тренды
В Севастополе новые занятные тренды  8 месяцев, как кот дома
8 месяцев, как кот дома  Утреннее
Утреннее 



