Ааб Виктор Васильевич. Инженер-связист. Начальник телефонной станции 6
 jlm_taurus — 07.03.2023
Беспокойный, неугомонный человек – Олишевский. Вот уже
полгода не даёт ему покоя странный агрегат, приютившийся рядом с
уличным туалетом. Он представляет собой, довольно вместительную
бочку с многочисленными патрубками её опоясывающими. Я тоже, как-то
обратил на неё внимание, зачем, мол, во дворе этот металлолом?
jlm_taurus — 07.03.2023
Беспокойный, неугомонный человек – Олишевский. Вот уже
полгода не даёт ему покоя странный агрегат, приютившийся рядом с
уличным туалетом. Он представляет собой, довольно вместительную
бочку с многочисленными патрубками её опоясывающими. Я тоже, как-то
обратил на неё внимание, зачем, мол, во дворе этот металлолом?– Это не металлолом – вводит меня в курс дела Макарычев – это кормозапарник. Ну вот, – кормозапарник! Что – готовимся собственное подсобное хозяйство организовать?
Оказывается, всё не так просто.
Ещё Мирославцев Виктор Анатольевич, будучи начальником ТТС, притащил его из хозяйства отца – директора совхоза, с намерением собрать собственный паропреобразователь. Назначение этой бочки – производить горячий пар. Что и делает единственный, имеющийся в городе, паропреобразователь горводоканала.
Тот самый паропреобразователь, который с таким трудом, выделяется нам для аварийных работ на сети, в сложные периоды господства морозных дней.
Не дошли до этой работы руки ни у Мирославцева, ни у Ковалёва. Да и мне в эту затею верится с трудом.
Олишевский настоятельно просил повременить с очисткой двора от этого хлама. Он уверенно пообещал, что к следующему зимнему периоду мы будем иметь собственный паровик. Ну, коли так, я не настаивал, убрать его с глаз долой. Долго стояла бочка, пусть ещё постоит…
Чудак этот Олишевский… Прямо, как Самоделкин из тёплых детских сказок.
А пока этот «Самоделкин» утащил со двора разобранный скелет старой автомашины, давным-давно отслужившей свой срок и тоже, болтавшейся во дворе, и не сданной в металлолом, по причине повседневной занятости. И вот, через какие-то свои связи на ремонтном заводе в селе Летовочном Талеровского района – своей родины – обменял её на приличный, полностью отремонтированный ГАЗ-53.
Целеустремлённый человек – Олишевский. Долго обсуждал что-то с Макарычевым, несколько раз ездил с ним в ГАИ и наконец, привёз выправленные на эту автомашину документы. Также совместно с Александром Николаевичем раздобыл стандартную бочку от ассенизаторской автомашины в Спецавтобазе у Бабчука, взгромоздил эту бочку на пригнанную автомашину и обещает, уже в июле, запустить в эксплуатацию, собственную на ГТС, водооткачивающую автомашину.
– Виктор Васильевич – в июле готовьтесь принимать ещё одного нового водителя на «бочку» – на полном серьёзе предупреждает он. Как это кстати! Оборудованная навесной водяной помпой автомашина кабельщиков практически использоваться в городе не может. Санэпидстанция всё строже и строже отслеживает собственное решение, согласно которому, откачиваемая из канализационных сооружений вода не может быть слитой в арыки и подлежит обязательному вывозу за пределы города.
Кабельщики, конечно, рискуют, нарушая этот запрет от безысходности, но Висящев беспокоится. Ему, явно не хочется нарваться на штраф…
Спустя несколько дней, Егоров нашёл и подрядную организацию, которая в короткие сроки сможет выполнить намеченные работы. Ею оказалась СПМК-2 Целинсантехмонтаж, возглавляемая Иваненко Николаем Петровичем. Это было предприятие, на котором, в своё время, работал Егоров, но это было и предприятие, на котором, в настоящее время, работал мой свояк Николай.
Мало того, оказалось, что непосредственно ремонтные работы будет выполнять участок, возглавляемый прорабом – Вернером Александром, другом свояка и естественно, моим приятелем, с которым дома, у Николая за столом, мы провели не одну праздничную вечеринку.
Вот уж действительно, тесен мир… И как это водится, ни одна вечеринка не обошлась без сетований, что ни у моего свояка, да и у Вернера – на квартирах, я, начальник ТТС, по дружески не могу решить вопрос с установкой им заветного телефона.
Ну вот – теперь, ходатаем за установку квартирного телефона Вернеру выступил Егоров. Каждый день, в течение нескольких летних недель, с немым вопросом в глазах возникал передо мной во дворе ТТС то сам Вернер Саша, то Егоров. Массу ходатайств, притащил он за Вернера в абонентский отдел, подписанты которых утверждали, что квартирный телефон Вернеру крайне необходим.
Ну что мне делать? Изыщу техническую возможность установить телефон Вернеру – кровно обидится не имеющий телефона Николай и сестра моей жены – ведь проживают они в одном доме с Вернером. В ПМК-овском доме.
Да и не могу я обойти трёх льготников – участников войны и инвалидов различных групп, да и просто, очередников в этом доме.
Наверняка, весь дом знает, что супруга Николая – родная сестра жены начальника ТТС. Наверняка – вселенский скандал разразится по поводу первого же телефона, установленного неправедно, в их доме. А технической возможности, поставить даже один телефон в доме – по-прежнему, нет. И не хотят меня понимать доблестные пэ-эм-ковцы.
Уже давно закончил работу Вернер так и не получив телефона, в душе считая меня, давшего ему слово, что телефон у него в квартире до конца года заработает – обманщиком. Уже бежит по проложенным им тепловым трубам горячая вода, обогревая административное здание Телеграфно-телефонной станции...
По выходу из отпуска я вернулся к своему обещанию. Изнывающим в борьбе с повреждениями кабельщикам всё некогда пробросить дополнительно, через чердак соседнего дома, десятипарный кабель к интересующему меня дому. Только к концу октября сумели они, наконец, прокинуть этот злополучный кабель.
Всё лето, за счёт блокирования номеров, освобождал пять пар на магистральном кабеле, Висящев.
И вот, наконец, к ноябрьскому празднику – установлены в доме по адресу Габдуллина 59, десять дополнительных телефонов. Восемь из них имеют блокираторные номера и только у родственников моих, и Вернеров – номера – основные. Всё сделано строго по Правилам.
Рады, неожиданно получившие телефоны в доме льготники, рады и просто – очередники. И я думаю, что маленькую привилегию, которую я позволил в отношении моего родственника, установкой ему не блокираторного номера – они мне простят.
Люда и Коля, тоже, безумно рады. А у моей семьи есть повод, отметить юбилейный Октябрьский праздник, а заодно и «обмыть» квартирный телефон, за праздничным столом у моих ближайших родственников – и конечно, вместе с Вернерами. И конечно – вместе с нами будет отмечать праздник и моя с Николаем общая тёща, одиноко проживающая в нетелефонизированном, собственном доме на Элеваторском поселке и тоже, в телефоне очень нуждающаяся….
Планы и намерения на ближайшее будущее рушатся в один миг. Прямо на работу мне доставляют повестку из военкомата – в ней указана необходимость срочной явки. Я досадливо морщусь. Опять военком Порошкевич, потрясая полномочиями военного ведомства, будет выбивать новые установки телефонов, для нужд военкомата, на голом месте.
На деле, всё гораздо серьёзнее. Называется статья Закона, в соответствии с которой я обязан пройти двухмесячные армейские сборы переподготовки для офицеров запаса. Тут же, вручается направление для прохождения медицинской комиссии – и … время пошло. Чётко работает военкомат.
Бессмысленно гадать – толи это мелкая месть облвоенкома Порошкевича неуступчивому руководителю – связисту, толи, действительно – плановая подготовка офицерского состава. Суть дела не меняется. Призвать меня на военную службу у государства есть все основания.
Но вот как я о своём решении скажу жене… После декретного отпуска она уже в полную силу работает на Автоматической междугородной станции (АМТС) и вот, на целых два месяца, я оставляю её одну, с двумя малолетними детьми.
Олечке – три с половиной года, Лене – нет и трёх. Благо – рядом находится детский садик, метрах в трёхстах от дома. Благо – дети не болеют и с удовольствием в этот сад идут. Но как, их двоих, тащить туда – как их, забирать вечером? Ведь на улице – зима. Детей надо хорошо и тепло одевать – что тоже, не просто… Необходимо забежать в магазин, отстоять в очередях, запастись продуктами… Как всё это сделать одной?..
Сейчас, наши дети – поделены, я, большей частью на руках, уношу Лену в садик, вечером же, медленно топая кривыми ножками, пухленьким медвежонком, путь домой она, уже часто совершает сама, хотя надо обладать терпением и волей, чтобы побудить её к этому. С Ольгой – несколько проще, хотя и она тоже, может проявить капризы.
Рома воспринимает необходимость моего отъезда стойко. Но я вижу в глазах её растерянность и даже, беспомощность. Она, тоже не может взять в толк – как ей, одной, управляться с двумя маленькими дочурками.
До меня, наконец, доходит, – что со мной сделается в этой командировке? Это не меня, это мою жену военкомат наказал, – и наказал сурово! За что?..
Рома даже не напоминает о том, что я могу представить в военкомат документ о наличии двух малолетних детей, который, наверняка, может отменить мой «призыв». Она тонко чувствует, что не в моем характере – делать подобные шаги, и не осуждает меня за это.
Часа два длится неопределённость, наконец, военные выясняют, что сборы офицеров запаса с завтрашнего дня, действительно, начинаются. На улице уже темнеет, и старший лейтенант сопровождает меня к имевшемуся на территории части, офицерскому общежитию – смутно видневшемуся вдали.
Пустая неухоженная комната, четыре кровати с панцирными сетками, матрацы, грубые одеяла, обшарпанный столик. Солдат приносит комплект постельных принадлежностей.
– Располагайтесь. Определяться будете завтра, – старший лейтенант оставляет на столе ключ от комнаты и уходит.
Ну что же, и на том спасибо, мне бы ночь подержаться…Действительно, – продержаться! Температура в комнате – не более десяти градусов. Тусклый свет одинокой лампочки на потолке – сгоряча после жаркой каптёрки раздевшись, я вынужден снова натянуть на себя пальто. Опять разыгравшийся было кашель, – стихает.
Делать нечего, голодный, расправляю постель – остаётся только спать. Одеяла недостаточно чтобы согреться, нахлобучиваю поверх его своё пальто, укрываюсь с головой – постепенно, ощущение озноба проходит. Жить можно. Да-а, хорошо встречает меня армия… а вообще, кому до меня есть дело в воскресенье?.. Ладно, утро вечера мудренее, – я проваливаюсь в сон.
Рано утром, ещё не рассвело – меня вырывает из постели стук в дверь – прибыл ещё один «рекрут». Он из Павлодара и тоже, очень боялся опоздать, и тоже, такими же методами, как и я – с трудом нашёл часть, и с трудом уговорил таксиста – доставить себя к ней.Мне становится легче. Слава Богу, не одному придётся «мыкать горе».
Окончательно всё проясняется утром. В комнату входит моложавый подполковник представляется как руководитель сборов, сообщает, что на них должны прибыть двадцать пять запасников.
– Жить будем здесь в общежитии, заниматься будем – в основном, тоже в общежитии. Программу я сообщу позже. Сегодня, – день заезда и обустройства, – решает он. А пока, вам надо стать на довольствие. Да, действительно, перекусить бы сейчас – в самый раз. Хотя бы, чайку горячего хлебнуть…
Наконец в штабе, который располагается рядом с общежитием, в приспособленном щитовом домике, регистрируют наше прибытие.
Подполковник разыскивает старшину, распоряжается выдать нам обмундирование, показывает, где располагается солдатская столовая – сообщает о режиме её работы.
– Там для вас будет накрыт отдельный столик, – сообщает он.
Подполковнику некогда, у него масса своих дел. Он оставляет нас на попечение старшины и уходит.
Огромный склад в основательно оборудованном полуподвальном укрытии – чего там только нет! Мы подбираем под свой размер обмундирование.Нательное белье, гимнастёрка, штаны – галифе. Сапоги, портянки, шинель… – всё солдатское, погоны – офицерские.Мой новый товарищ, – Володя, он из Павлодара и совсем не связист, а строитель – сообщает – таких как мы призывников называют в народе – « партизаны». Понимая, что в месте нашего нового проживания вряд ли будет теплее, буквально, вырываем у старшины – дополнительно, по комплекту тяжёлых, из верблюжьей шерсти – одеял.
Столовая – закрыта, теперь она откроется только в обед, и у нас есть время, заняться подгонкой обмундирования и переодеванием.
Слава Богу, у меня богатая, из детства, практика наматывания портянок и совсем не пугает жёсткость кирзовых сапог. Я хорошо знаю, как обходиться с ними, да и белый подворотничок на гимнастёрку подшить, – не проблема. Володя, тоже, не отстаёт, в отличие от меня он, когда-то, служил в армии – солдатом.
Проходит не более часа и вот, оба мы облачены в одежду цвета хаки. На погонах – по три звёздочки, в петлицах – кому что нравится. По слухам – мы находимся на территории танкового полка, поэтому у меня – танк. Солдатский ремень – по талии. Непривычно себя ощущать в военной форме, но сразу чувствуется – она удобна. Гражданскую одежду нам приказано сдать на хранение в склад, что мы и делаем.
Время до обеда пролетело незаметно. В очень просторной столовой деревянные столы, каждый – человек на десять, – облеплены солдатами. Дневальный проводит нас к нашему столу. Здесь уже стоит посуда и во главе стола – огромная кастрюля с рассольником – на целое отделение.
На второе – макароны по-флотски. Нас всего двое – а еды – ешь, не хочу. Даже без учёта того, что мы проголодались, обед хоть и прост, но вкусен. Жить можно.
Столовая набита солдатами. Их не видно на гарнизонных площадках. Они появляются неизвестно откуда и неизвестно куда исчезают. Заметив звёздочки на наших погонах, уступают нам дорогу у входа, – опасливо сторонятся. Ужин уже находится на нашем столе – и по-прежнему, нас за ним – двое.
Утром следующего дня, собираемся в классе – нас уже четырнадцать человек. Подполковник высказывает предположение, что остальные одиннадцать человек вряд ли прибудут. Обещает представить рапорт высшему начальству о неудовлетворительной работе военкоматов по укомплектованию сборов. Звать подполковника – Валерий Егорович. Большинство прибывших на сборы – из Караганды и Темиртау, по профессии толи металлурги, толи шахтёры, – все, офицеры запаса. Находится, даже, среди нас один – капитан. Он, как старший по званию, и назначается командиром взвода – несмотря даже на то, что по виду – он, явно с бодуна.
Выясняется окончательно, что среди всех, по профессии и образованию, я – единственный связист. Подполковник смотрит на меня с явным удивлением – и как это я сюда попал…
Валерий Егорович в единственном лице будет и нашим командиром и нашим преподавателем. Целый месяц в данном импровизированном классе мы будем заниматься теорией, изучать матчасть, а затем, будем участвовать в учениях. Становится понятным, что кроме него, мы в части, в принципе, никому не нужны.
Он подготовился к первому занятию. Под запись рассказывает о принципах организации связи в роте, батальоне. Это всё – радиосвязь. Называет типы радиостанций. Перечисляет нам тактико-технические данные оборудования. Я не знаю, насколько это интересно моим новым товарищам, но меня бросает в неудержимый сон. Скулы разрываются от зевоты. Сколько раз я слышал всё это. Спасает лишь то, что приходится записывать информацию в тетрадь.
Обыкновенная лекция, но только очень низкого качества. Как и положено, она прерывается перерывами и наконец, завершается временем на обед. После обеда мы должны собраться в своём классе на самоподготовку, повторять записанное...
– Мужики, напутствует нас Валерий Егорович, – вы же взрослые люди и всё понимаете. Поэтому главное, – ведите себя тихо…… И потянулись будни. Боже, – какая тягомотина, какая скука…
Между тем, я и мои товарищи по «службе» вполне освоились со своим положением. Приспособились к обстоятельствам, каждый в соответствии со своими пристрастиями. Главная заповедь – не мельтешить перед глазами у военного начальства и вести себя тихо, и неприметно. Ведь, по большому счету – здесь мы никому не нужны.
По воскресеньям, не пешком, а на армейском автобусе, вырываемся в городскую баню – в этот день она не так полна местным людом, как в субботу. Давно уже обнаружили, что на территории части существует, правда не бесплатная, офицерская столовая с приличным набором обычных, гражданских блюд, активно пользуемся ею в пятидневку и лишь, в два последних дня недели, когда она закрыта – вынужденно, посещаем солдатскую столовую.
Истина – в сравнении. Боже, насколько убога, именно по причине унылой однообразности, после офицерской, или – просто гражданской – солдатская пища.
А жизнь течёт. Уже не грех подумывать нам – партизанам, и о дембеле...Как-то, оказавшись в штабе у армейского коммутатора – обращаю внимание, что абонентские проводки телефонов штабного начальства состоят сплошь из скруток. Как по ним работают телефоны – одному Богу известно. Хотя нет, известно и Валерию Егоровичу.
– Не связь, а сплошные слезы – сетует он. Ну не полевой же провод протягивать по кабинетам...И вдруг его осеняет:– Виктор, ну вы же, наверное, знаете местных, гражданских связистов. Может быть, сможете достать у них, хотя бы метров тридцать, комнатной проводки?
А что я? – Конечно, смогу. И хотя с местными связистами совсем не знаком, но и мне самому, очень хочется побывать на Семипалатинской ГТС, обменяться проблемами, может быть, почерпнуть что-то полезное из их опыта. И паводок у них в городе – не меньше нашего, Синегорского. Как у них с повреждениями?..
Сам бы не решился к ним сходить, а тут – подполковник просит. Неудобно отказать. Да и день среди недели, значит, пройдёт интереснее.
Телефонная станция – тоже в центре города. Отыскать её не стоит труда. Вход с внутренней стороны двора, того же корпуса здания, где располагается, и ставший уже мне родным, центральный переговорный пункт.
Добираюсь до приёмной. Прошу у секретарши аудиенции с директором. Представляюсь как начальник Синегорской ГТС. Секретарша оглядывает недоверчиво мою амуницию – что мол, за маскарад, но в кабинет пропускает.
Директору, похоже, тоже странно, что начальника связи областного центра и вдруг, призвали в «партизаны»?! Но он не подаёт виду. Чувствуется, что у него сейчас запарка – паводок в разгаре. Особо обмениваться мнениями – времени нет, но вежливость обязывает. А в принципе, нам вполне достаточно кратковременного разговора, из которого понятно – проблемы по связи у казахстанских гэтээсников абсолютно одинаковы. Так, – различаются маленькими вариациями…
На прямой вопрос: – а сколько в городе, сейчас, кабельных повреждений? – обречённо махнув рукой, проговаривается директор – более пятисот...– Кабеля нет… Кабельщиков не хватает… Установки телефонов делать надо…
И видно по его лицу, что он смирился с этим количеством, и воспринимает состояние своей сети, как неизбежное.
Уяснив конкретную цель моего визита, деловито распоряжается мой коллега принести провод ТРП – «лапшу», как его называют связисты. Целых сто метров комнатной проводки! Вроде и чудик перед ним, но всё-таки связист, – как ему откажешь…Мой подполковник безмерно рад, будто с неба свалившейся ему, драгоценности. А меня, после похода на местную ГТС, с новой силой захлёстывают переживания и невесёлые предположения. Так ли всё благополучно у Макарычева в действительности, как рапортует моя жена.
Скоро, уже скоро, закончится навязанное мне «добрым облвоенкомом» безделье. Осталось, чуть более двух недель, и окунусь я опять в бурную напряжённую жизнь, где только успевай поворачиваться – стресс слева… нахлобучка справа… недовольство сверху – на голову…
...Гораздо больше, на этот раз, мне создавал проблем ход удовлетворения заявлений на установку телефонов инвалидам и участникам войны. Отдельный план на установку телефонов этой категории граждан доводился предприятиям связи. Цифры плана были нарисованы с потолка и не подкреплялись ресурсами. И не мудрено, что ТТС эти планы не выполняла.
Серьёзно вникать в проблему телефонизации участников войны я начал примерно с ноября прошлого года и обнаружил полный беспорядок в организации этой работы.
Единственным документом, подтверждающим, что ТТС знает об этой проблеме, были хранившиеся в абонентском отделе отдельные списки инвалидов и участников, сформированные в порядке очереди, по дате подачи заявления на установку телефона, с указанием адреса проживания просителя.
Списки очерёдности служили хорошим инструментом для формальной отмашки от любого, пришедшего жаловаться, что ему не ставят телефон как ветерану войны. Вежливо тыкали ему в список, в котором он числился, и был в этом списке явно не первый, успокаивали человека, что держат заявление на контроле, обнадёживали туманными обещаниями, что при первой же возможности, это заявление удовлетворят.
Как правило, ветераны войны вели себя робко и очень порядочно, доверчиво принимали очередное обещание и терпеливо ждали его исполнения, особо не надоедая своими посещениями. На первых порах, у меня сложилось именно такое впечатление, и оно основывалось на моем предыдущем опыте работы с очень незаметными, в изъявлении своих потребностей – сельскими ветеранами.
Воспитанный литературой на героике войны, сам мечтавший стать офицером, я предельно внимательно рассматривал просьбу каждого пришедшего ко мне на приём ветерана войны и в случае, если по материалам обследования не видел обнадёживающего решения – взял в практику, не давать ему пустых обещаний.
Это было очень трудно – не называть человеку каких-либо сроков и, по сути, отказывать ему, но в моем понимании, это было честно. И большинство ветеранов такую честность принимали достойно.
Но город, есть город. И очень скоро я на себе испытал и другую, авангардную, часть ветеранского воинства, которое за продекларированные на бумаге им государством льготы, бросались ради скорейшего их получения в бой на людей, которым государство формально поручило эти льготы удовлетворить, не дав при этом в руки соответствующего инструмента. Бросались в бой на этих людей боевые ветераны как на врагов.
Однажды, измотанный шквалом этой яростной атаки, я не выдержал и с обидой сказал старику, крепко сбитому и громко разглагольствующему о том, как он крепко нас защищал – Ну вот, Вы говорите, что нас защищали, а сейчас – совершенно не принимая во внимание чётко разложенные объективные причины, не позволяющие выполнить немедленно Вашу просьбу – по сути, своим напором, готовы довести меня до инфаркта. Почему сейчас, когда нет войны, и всё совсем не так уж плохо, да и я Вам, явно, не враг, и в то же время, из-за паршивого телефона, без которого люди веками жили, Вы так энергично ожесточаетесь на меня?
И ответил мне ветеран коротко и ясно
– А какое мне до тебя дело! Ты хоть издохни здесь, а положенное мне отдай…К счастью, таких людей было не много, но их было достаточно, чтобы своими неадекватными и часто, непрерывными, до победного конца атаками, они постепенно способствовали формированию не очень доброжелательного отношения к нуждам и запросам ветеранов. Не только у тех, кто по долгу службы обязан был контактировать с ними, но и у многих простых людей.
Об этом не говорили вслух – но это, не очень почтительное чувство, в отношении человека с орденскими планками на груди, как правило, в очередях за дефицитным товаром, возникало и постепенно усиливалось.
Не скрывала двойственного отношения к ветеранам бессменный начальник абонентского отдела Юртабаева Асия Хасановна. Она работала ещё в Городском узле связи с Селиным. Больше всех, она встречалась непосредственно с людьми, жаждущими получить заветный телефон, и имела наибольшие возможности повлиять на судьбу установки, собственно, это и было её обязанностью.
Несмотря на повышенную готовность – всё начинается крайне неожиданно и нелепо. Начинается – 13 апреля! В подвале крупного пятиэтажного дома – практически в центре города, происходит взрыв газа. В сводке количество кабельных повреждений с 49 подскакивает сразу до 270.
Побывавший на месте взрыва Висящев сообщил, что, слава Богу – обошлось без человеческих жертв и само здание, в принципе, не пострадало, однако, в подвальном помещении произошёл локальный пожар, к счастью, очень быстро потушенный подоспевшими пожарниками.
Взрывной волной разрушило многочисленные перегородки подвальных секций и, конечно же, как всегда «повезло» связистам – огонь успел выжечь подведённые к дому кабели связи.
Оказывается, по способу телефонизации дом был особенный – телефонизировался в своё время несколькими этапами и в нем работали телефоны от трёх АТС с начальными цифрами номеров на – «6», на – «4» и даже, как это ни парадоксально, на – «7».– Как же это мы умудрились – дом, находившийся совсем недалеко от центральных АТС, телефонизировать ещё и от АТС-7, расположенной «у черта на куличках» – на самой окраине города, из зоны действия – тамошних домов, которым самим, катастрофически не хватает номеров? – искренне изумился я.
– А что поделаешь – пояснил Макарычев – при составлении новых проектов запрещается планировать в подлежащих телефонизации домах более тридцати процентов квартир на установку в них телефонов, а лежащие без движения долгие годы, десятки лет, заявления на установку телефона от жильцов удовлетворять как-то надо! Вот и приходится к наиболее проблемным и скандальным домам тянуть телефоны, при подвернувшейся возможности – хоть с неба.
В данном случае, жильцы дома так вымотали всех представителей власти, имеющих возможность, хоть как-то, влиять на установку телефонов, а они, в свою очередь – Ковалёва и Фенина – что пришлось, вопреки здравому смыслу – ради их умиротворения, «плюнуть» на все правила. Вот и протянули отдельный кабель сюда, в центр, через весь город – с «семёрки», расположенной на расстоянии в целых шесть километров. Другой возможности больше не было.
– Ну и что – судя по тому, что сразу 250 телефонов вышло из строя – этот дом полностью телефонизирован?
– Конечно же, нет! Просто, через подвал этого дома перераспределяются кабели и на соседние дома в квартале. Всем дали телефонов понемножку и этим самым, ещё больше раззадорили жильцов, которым, опять, телефоны не достались – с неодобрительной иронией, выразил своё отношение к подобным методам телефонизации Макарычев. Я уже не говорю о том, насколько усложняется и запутывается сеть – он досадливо поморщился и опять замолчал.
– Значит, нам в будущем опять придётся телефонизировать этот дом, по третьему и возможно, по четвёртому этапу, сознательно оставляя в нем неудовлетворённые заявления? – не удержался я от наивного вопроса.– А куда деваться – изображая беспомощность, с кривой усмешкой ответил Макарычев.
Ну вот, мне все более и более становился понятен существующий, совершенно запутанный, как для связистов, так и для граждан, механизм образования и движения гигантских очередей за телефоном, становилось понятно, почему эти очереди нигде практически не прекращаются, а имеют тенденцию только к расширению.
Подсознательно, особенно после опустошающих душу, приёмных дней – меня всё чаще и чаще, посещало чувство какой-то странной несправедливости, сопровождающей тяжёлый и мучительный труд по распределению телефонов людям. Этот процесс, в силу особой деликатности, я с первых же дней появления на ТТС, взял под личный контроль.
Вокруг установок навеян был очень нездоровый ажиотаж. В еженедельные приёмные дни, в назначенное время дожидались меня люди – единственной целью которых было – выбить себе на квартиру заветный телефон. И большинству из них, действительно, телефон на квартире был просто необходим. Я искренне радовался, когда после тщательной оценки специалистами, находилась реальная возможность, хотя бы на один, увеличить количество телефонов в доме. Ведь с каждой дополнительной телефонной точкой в доме увеличивалась возможность доступа к телефону, в случае острой необходимости и жильцам нетелефонизированных квартир. Позвонить в скорую, например…
В большинстве своём соседи, имеющие телефон с пониманием относились к такой необходимости и разрешали сделать от себя звонки. Не с улицы, с неизвестно ещё, работающего ли телефона-автомата, не с соседнего дома – а здесь рядом – с подъезда, а может быть, даже и с лестничной клетки….Конечно, человек получивший телефон в своей квартире радовался. Радовался и я, и этого, по наивности, ожидал и от соседей получившего телефон человека. Но не тут-то было.
Сначала с недоумением я реагировал на претензии, как правило, пришедших на приём через некоторое время после появления в доме нового телефона – соседей, которые считали, что именно этот телефон, по справедливости, должен быть установлен именно у них, а не у соседа. И что, раз появилась возможность установки одного телефона в доме соседу – то непременно, такая возможность существует и для удовлетворения их заявления. Надо только надавить на начальника, может быть жалостью к себе, а может быть и угрозами.
И чтобы не доводить дело до скандала – а дежурная фраза, «нет технической возможности», их не устраивала – приходилось в популярной форме, простыми словами, объяснять очень далёкому от профессии связиста человеку, очень часто – пожилому, сложнейшие технические проблемы, препятствующие удовлетворению его просьбы, а то и организовывать целое расследование.
Все более и более распространявшаяся по стране гласность пьянила людей, а особенно остро чувствующим информационные послабления, позволяла ещё и «распоясываться».
И тогда, начальник абонентского отдела по установкам последних лет – если они были в рассматриваемом доме – как бы оправдываясь, в присутствии посетителя, давала подробную информацию с объяснением причин установки. И хорошо, если причиной была очередь. Любые другие причины вызывали, как правило – негодование и протест.
Иными словами – в принципе, доброе дело по включению в сеть ещё одного телефона, оборачивалось тем, что ко мне, к начальнику предприятия устанавливающего телефоны, посетители вольно или невольно приходили, выражать недовольство этим.
У меня, связиста, правда была одна, у посетителя правда была другая и очень редко, взгляд обоих, на эту правду – совпадал. И ощущаемое чувство обиды от упрёков, в принципе, за доброе дело подсказывало крамольную мысль – а люди в большинстве своём, когда стремятся добиться своих личных целей – несправедливы.
Я гнал эту мысль, внушая себе, что не имею на неё права, мне претила чёрствость, проявляемая к людям. А мысль не отступала. Очень уж болезненны были ощущения от этих упрёков, в том числе и ощущения физические – к завершению приёма по личным вопросам, с левой стороны груди, всё чаще, стала появляться неприятная, тянущаяся от горла к сердцу, вязкая ноющая боль…
По вечерам, дома, когда посапывали в кроватках уже мои малышки – обязательно находил я время покопаться в многочисленных книгах плотными рядами стоявших на полках книжных шкафов. Страсть к книгам, воспитанная в детстве, в равной степени, присутствовала и у жены. Однажды, наткнулся на оранжевый томик Марка Твена и, перелистывая его, заинтересовался и перечитал «Рассказ о великодушных поступках».
Герой этого рассказа, врач, пожалел однажды раненого скулящего пса, случайно оказавшегося на пороге дома, и обработал его раны. Пёс, почувствовав доброе безотказное сердце врача, стал приводить к его дому для получения медицинской помощи всё больше и больше побитых невзгодами приятелей – собак-горемык, которым в помощи отказать врач, тоже, не мог. И однажды утром, врач, выйдя на порог своего дома, нечаянно наступил на лапу одной из, скопившихся на крыльце и уже традиционно ожидающих его помощи, многочисленных, скулящих собак.
В ответ собака немедленно впилась зубами в его ногу. К несчастью, она оказалась бешеной и врач, вскоре, скончался от её укуса. Жертвой собственных великодушных поступков оказался врач….
Очень тронул меня за душу этот рассказ, тронул и заставил задуматься – а надолго ли хватит моего здоровья, если я позволю трепать свою душу каждому посетителю, пусть даже и очень нуждающемуся в помощи?
Наверное, я должен выработать какую-то внутреннюю защиту от проникающей в самое сердце жалости к ним – выработать чёрствость. Вспомнился один из предшественников-руководителей Мартьянов Анатолий Васильевич – буквально за несколько месяцев, доведённый, жаждущими телефонов людьми, до инфаркта. И если люди, приходящие ко мне со своими проблемами, совершенно не видят во мне человека и не щадят мои чувства, то я просто обязан, выработать защитную реакцию. Стать чёрствым – это профессиональное требование – наконец, осенило меня, и осознать эту истину мне помог мудрый Марк Твен. Вот только, мгновенно стать чёрствым человек не может...
...На 1 октября 1988 года на сети городской телефонной станции г. Синегорска работает 226 таксофонов, из них круглосуточный доступ имеют 176 таксофонов. В городе установлено 76 кабин. Остальные 60 автоматов установлены на стенах зданий и стойках под козырьками изготовленных в мастерской. Обслуживание таксофонов производится бригадой из 5 человек по разработанному маршруту. Состояние таксофонов можно считать удовлетворительным. Из 96 проверенных – 10 оказались неработающими со следующим характером неисправности. Нет диска номеронабирателя – 2 шт. Нет трубок – 6 шт. Вскрыт монетный отсек – 1 шт.Нет слышимости при ответе абонента – 1 шт.
Несложный ремонт производится монтёрами при обходе, а более сложный ремонт в мастерской по ремонту телефонных аппаратов. В настоящее время заводы прекратили выпуск кабин для установки таксофонов, а взамен ничего не предложено. Имеющиеся на сети кабины имеют неприглядный вид из-за отсутствия стёкол.
Имеются случаи хищения таксофонов и деталей к ним. Так за 9 месяцев текущего года похищено:Таксофоны – 2шт. Трубки микротелефонные – 150 шт. Капсюль телефонный – 60 шт. Номеронабиратели – 15 шт. Общий материальный ущерб составил 1575 рублей 00 коп. Мер по пресечению и выявлению виновных в хищении со стороны УВД не ведётся т. к снижения хищений по сравнению 1987 годом нет. Средняя доходная такса таксофона за 1987 год составляет 208,59 руб, за 1988 год – 226, 18 руб.
...Это уже было несколько лет назад. После событий 1986 года. Первый Секретарь компартии Казахстана Геннадий Колбин бросил установку – решительно изучить национальный состав республики – разобраться с пропорциями и количеством лиц разных национальностей, составляющих коллективы предприятий и учреждений, решительно потребовал от властей – создать условия для развития и равноправного учёта интересов всех, даже самых малочисленных из них.
И закрутилось бездумное бюрократическое колесо. Предприятия получили указание, и к неукоснительному исполнению, – разнарядку – каждому представителю, особенно, малой национальности, срочно подписаться на одно, а лучше на несколько печатных изданий на родном языке! Не знаю как другие, но я воспринял это указание как издёвку. Не знающий родного языка, не по своей вине – с чего бы это я выписывал газету на непонятном мне немецком языке? Не иначе – как разве что, для отчёта, для галочки. Чьего отчёта?
Просто у нас, зачастую, очень просто «решаются» сложнейшие вопросы. Вопрос полного охвата подпиской на периодические издания оказался на контроле лично у первого секретаря горкома Дымченко Александра Сергеевича. И факт, что я проигнорировал высочайшее указание, не прошёл мимо его внимания. И был я вызван по этому вопросу «на ковёр».
К чести Александра Сергеевича, достаточно уже изучившего мой характер, обострять ситуацию он не стал, лишь настоятельно, глаза в глаза потребовал – Вы же немец по национальности, Виктор Васильевич, – вот и подпишитесь на немецкую газету! Меня всколыхнуло всего – вспомнил… – и потребовались колоссальные усилия совладать с собой и… просто промолчать.
Я так и не подписался тогда на немецкую газету. И обошлось моё упрямое, и в глазах многих, совершенно глупое неповиновение, без последствий тогда. Стоит ли придавать такое значение формальным мелочам? Но живёт же во мне этот национальный немецкий педантизм…Система синхронного перевода – это тоже – мелочь.
Мелочь, конечно! Но такие «мел
|
|
</> |

 Чем отличается триммер от кустореза
Чем отличается триммер от кустореза  О чем предостерегают в украинских телеграм-каналах
О чем предостерегают в украинских телеграм-каналах  Если бы на Марсе были города (в ушах ща)
Если бы на Марсе были города (в ушах ща) 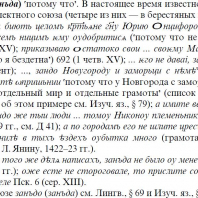 Загадочный древненовгородский союз занъдо
Загадочный древненовгородский союз занъдо  Май в Аптекарском
Май в Аптекарском  ДР
ДР  Всё зависит от того, какое животное вы увидели первым
Всё зависит от того, какое животное вы увидели первым  Любите морепродукты?
Любите морепродукты?  28 мая ● "День пограничника", "День брюнеток" и не только...
28 мая ● "День пограничника", "День брюнеток" и не только... 



