Впечатление И связанные с ним воспоминания
 tareeva — 28.09.2024
Теги: Высоцкий
tareeva — 28.09.2024
Теги: Высоцкий
Дорогие читатели, я практически исчерпала свою тематику, связанную с моим и не только моим прошлым. И теперь мне ничего не остаётся, как только делиться с вами текущими впечатлениями. Я, правда, ещё не всё написала о Сталине, а должна написать всё. Это мой долг, и я его исполню. Но писать о Сталине очень неохота, и я всё оттягиваю и откладываю, проявляю непростительную слабость.
Так я про впечатления. Мы с Александром работаем практически каждый вечер, пишем тексты для блога. А когда кончаем работать, обычно между 22 и 23 часами, Александр читает мне программу телевидения, программу с 22 до 2 часов ночи по всем основным каналам. Я стараюсь всё запомнить, что не всегда получается. В субботу Александр мне сказал, что по Первому каналу покажут фильм, получивший Оскар. Но я подумала, что при моём очень плохом зрении и не слишком хорошем слухе серьёзный фильм мне не одолеть, даже включать не имеет смысла. Я села к телевизору, нажала какую-то кнопку, и начался фильм. Я не знала, кто и где снял этот фильм, но действие фильма происходит в Японии, в Хиросиме. Местный городской театр решил поставить пьесу Чехова «Дядя Ваня». И весь фильм, целых два часа, посвящён этому спектаклю. Обсуждают особенности чеховской драматургии, характеры персонажей, распределяют роли. Начинают репетиции, репетируют мизансцены и целые фрагменты пьесы. Ничего, более интересного для меня, невозможно придумать. А когда фильм кончился, я увидела, что я на Первом канале, что я смотрю тот самый оскароносный фильм, который мне рекомендовал Александр и который я решила не смотреть. Как же хорошо, что я посмотрела этот фильм про спектакль. Я люблю театр, а Игорь Тареев был человеком с актёрским образованием, окончил ГИТИС, и для нас обоих посещение театра и разговоры о театре были важной частью жизни. А с драматургией Чехова у меня особые отношения. На разные темы, посвящённые пьесам Чехова, я написала четыре дипломные работы – для себя, для Игоря Тареева, он много работал, и ему некогда было возиться с дипломом, для нашего друга Лизы и для совершенно незнакомой женщины. Игорь читал «свою» дипломную работу и делал замечания. Я учитывала эти замечания и переписывала. Он опять делал замечания, и я опять переписывала. И ещё, и ещё. Я спросила, неужели всё так плохо, и диплом не зачтут? Игорь сказал: «Что ты такое говоришь? Только такие ненормальные, как ты, пишут такие дипломные работы. Это, в сущности, готовая диссертация, не хватает только вводной главы, посвящённой истории вопроса». Игорь был популярной личностью на курсе, и на его защиту пришло много народу. Небольшая аудитория с трудом вместила всех желающих. Так редко бывает. И руководитель дипломной работы, и оппонент были очень довольны и сделали из Игоревой защиты целое представление. Игорю поставили пятёрку и предложили остаться в аспирантуре. Но он не захотел. Это было второе такое предложение. Наш преподаватель фольклора очень любил Игоря, почему-то называл его «Гусар», иначе к нему не обращался. Так вот, он сказал: «Гусар, я выхлопотал одно место на кафедре фольклора. Подавай в аспирантуру, мы тебя примем». Но Игорь не подал. Я его очень уговаривала. Меня с моим пятым пунктом в аспирантуру бы не взяли, а если бы Игорь поступил, я бы могла писать и публиковаться под псевдонимом «Игорь Тареев».
А с дипломом Лизы вышел казус. Тогда было принято, о чём бы ни писали, непременно цитировать основоположников марксизма, а также Ленина и Сталина. Цитата заменяла доказательство, раз Маркс или Сталин это сказал, значит, так это и есть, доказывать уже ничего не нужно, нужно только найти подходящую цитату. К цитате, конечно, прилагалась ссылка на источник. Нужно было написать, из какого это собрания сочинений, указать том и страницу. В дипломной работе Лизы оппоненту не понравилась одна цитата из Ленина. Он сказал, что Ленин этого говорить не мог. И как раз к этой цитате я забыла дать ссылку. Он обратил на это внимание. Сказал: «Вы сами это придумали и приписали Ленину. Недаром же здесь ссылки нет». На оценку диплома Лизы это не повлияло. Но Лиза очень перетрусила. Она боялась, что если станут копать поглубже, высказывать всякие сомнения, то она не сможет доказать свою правоту.
Что же касается дипломной работы для совершенно незнакомой женщины, то история такая. Я тогда работала во Всесоюзной книжной палате, и моя сослуживица и почти подруга Валя рассказала про свою знакомую. Её знакомая, её звали Женя, всю жизнь преподавала в школе физкультуру. Но шли годы, и она подумала, что когда она станет пожилым человеком, то физкультурные упражнения в её исполнении будут выглядеть неубедительно. И она решила переквалифицироваться и преподавать русскую литературу. Она поступила в пединститут на филологический факультет и кончила его. Ей оставалось написать дипломную работу. Но она не знала даже, как к этому подступиться. Валя рассказала мне это, и я посочувствовала Жене. Я сказала Вале, что если Женя ничего не имеет против работы о творчестве Чехова, то такую работу я ей напишу. У меня в моей чеховской эпопее не хватало темы о положительном герое у Чехова. Вот есть ли он у Антона Павловича? Мне самой хотелось с этим разобраться. Я написала эту работу, Женя защитилась и спросила у Вали, как ей Лину отблагодарить. Она сказала, что вообще-то есть расценки, и они всем известны. Известно, сколько стоит дипломная работа, сколько стоит кандидатская диссертация. Есть люди, которые этим зарабатывают. Она бы мне заплатила по этому прейскуранту и была бы спокойна. Но Валя сказала: «С деньгами к Лине даже не суйся, она ничем не торгует». И Женя нашла такой выход из положения. Она купила у перекупщиков за большие деньги билеты на два спектакля театра на Таганке. В этот театр невозможно было попасть. Билеты были на спектакли «Павшие и живые» и «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта. В спектакле «Павшие и живые» весь спектакль читают стихи фронтовых поэтов. На сцене теплушка, которая едет, мы понимаем, что она едет, потому что весь спектакль мы слышим стук колёс. А в раскатанных дверях этой теплушки молодые люди в солдатской форме читают стихи. Нам с Игорем не понравилось, как они читают стихи, и режиссура показалась довольно бедной. Мы всё время делились впечатлениями, говорили друг другу на ухо, окружающие шикали на нас, Игорь сказал: «Они все поклонники этого спектакля, нас здесь линчуют». И мы ушли, не досидев до конца. Я вообще не поклонница режиссёра Юрия Любимова. Он как-то изложил своё режиссёрское кредо, сказал, что порывает с традицией Станиславского, его театр – это не психологический театр, не театр-размышление, а театр-потрясение. Главными «потрясателями» были Владимир Высоцкий и Зинаида Славина. Вторым спектаклем, на который нам Женя подарила билеты, был «Добрый человек из Сезуана» по Бертольду Брехту. Пьеса очень хорошая. Её испортить трудно. Но Высоцкий в главной роли мне не понравился. Я очень люблю Высоцкого – автора и исполнителя своих песен. А к актёру Высоцкому отношусь сдержанно. Его Гамлет приводит меня в ужас. Гамлет – интеллигент, которому свойственны колебания и сомнения, а Высоцкий текст «Гамлета» не говорит, а рычит, воет. Мне Высоцкий как актёр понравился только в фильме «Служили два товарища». Он там играет белого офицера. Не все актёры театра на Таганке были единомышленниками Любимова. Такие большие актёры и мыслящие люди, как Николай Губенко, Леонид Филатов, и не только они, были не согласны с Любимовым и не хотели работать под его руководством. Театр раскололся на «Театр драмы и комедии на Таганке» и театр «Содружество актёров Таганки», который возглавил Николай Губенко.
Вот так со мной всегда бывает, дорогие читатели. Заговорила о театре и не могу остановиться.
|
|
</> |

 Мукопросеиватель: чистота, лёгкость и качество теста
Мукопросеиватель: чистота, лёгкость и качество теста  Умер Александр Митта
Умер Александр Митта 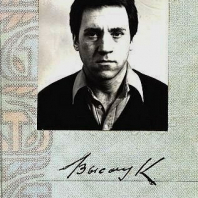 28 июня. Фразы дня из дневника и анкеты
28 июня. Фразы дня из дневника и анкеты  Москва в конце июня
Москва в конце июня  Какой светофильтр лучше выбрать для сварочной маски
Какой светофильтр лучше выбрать для сварочной маски  Донбасс без воды.
Донбасс без воды. 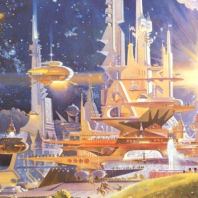 Освобождение труда
Освобождение труда  4 июля ● "День отдыха от праздников" и "День начала поиска Земли Санникова"
4 июля ● "День отдыха от праздников" и "День начала поиска Земли Санникова" 



