Трамп и его друзья
 kirovtanin — 11.06.2025
kirovtanin — 11.06.2025

Гастон Буассье "Цицерон и его друзья"
"Ему в скором времени пришлось снова спуститься на землю. Что бы ему ни представлялось в первую минуту, он скоро увидел, что этот город, встречавший его с таким торжеством, ничуть, однако, не изменился и что он находит его опять в том же состоянии, в каком его покинул. Уже три года в нем царила анархия, и такая анархия, что, несмотря на все примеры новейших революций, почти невозможно ее себе вообразить. Когда мы говорим о римской демагогии, не надо забывать, что она была намного страшнее французской, а пополнялась за счет элементов еще более опасных. Как бы основателен ни был тот страх, какой внушает нам всякое народное волнение, когда в день восстания поднимаются все подонки наших торговых и промышленных городов, будем помнить, что в Риме эти низшие слои опускались еще глубже. Ниже праздношатающихся и безработных всякого рода и племени, обычного орудия революции, там имелась еще целая толпа отпущенников, деморализованных рабством, которым свобода дала лишь возможность больше делать зла; там были еще гладиаторы, обученные сражаться и с животными и с людьми и привыкшие играть как собственной жизнью, так и жизнью других; но хуже всех там были беглые рабы, которые, совершив какое–либо убийство или грабеж, сбегались отовсюду в Рим, чтобы затеряться во мраке его народных кварталов; это была ужасная и отвратительная толпа без семьи, без отечества, а поставленная общим мнением вне закона и общества, она не могла ничего уважать, так как ей нечего было терять.
И вот среди таких–то людей Клодий и вербовал свои банды. Этот набор происходил среди белого дня в одном из самых людных мест Рима, около Аврелиевых ступеней. Затем этих новобранцев распределяли по декуриям и центуриям под начальство энергичных вождей. Из них по кварталам составлялись особые тайные общества, имевшие свой штаб и арсенал в храме Кастора. В определенный день, когда нужно было устроить народную манифестацию, трибуны приказывали закрывать торговые заведения, и тогда вся армия тайных обществ, усиленная освобожденными от работы ремесленниками, двигалась на форум. Там они встречали не честных людей, которые, чувствуя себя в меньшинстве, оставались дома, а гладиаторов и пастухов, которых сенат для своей защиты привез из диких стран Пицена и Галлии, — и вот начиналась свалка. «Представьте себе Лондон, — говорит Моммзен, — с рабским населением Нового Орлеана, с полицией Константинополя, с промышленностью современного Рима и добавьте к этому политическое состояние Парижа в 1848 году, и вы будете иметь некоторое представление о республиканском Риме в его последние моменты».
Не было больше ни одного закона, который бы почитался, ни одного гражданина или магистрата, который был бы огражден от насилия. Сегодня уничтожали должностные знаки консула, завтра убивали насмерть трибуна. Сам сенат, увлекаемый общим примером, потерял, в конце концов, то качество, которое вообще римлянин терял последним, — важность. В этом собрании царей, как его назвал один грек, споры стали вестись с возмутительной грубостью. Цицерон не удивлял никого, величая своих противников самыми грубыми кличками, такими, как свинья, навоз, падаль. Иногда прения становились настолько буйными, что шум доходил даже до волнующейся толпы, наполнявшей портики, соседние с курией. Тогда и она вмешивалась в прения, и так шумно, что испуганные сенаторы спешили удалиться. На форуме, понятно, было еще хуже. Цицерон передает, что когда уставали ругаться, то начинали плевать Друг другу в лицо. Кто хотел говорить народу, тот должен был силой брать трибуну, а чтобы остаться на ней, надо было рисковать жизнью. Трибуны нашли новый способ добиваться единодушия в голосовании предлагаемых ими законов, а именно бить и прогонять всех, осмеливавшихся идти против их мнения.
Но самые жаркие схватки происходили в день выборов на Марсовом поле. Приходилось поневоле жалеть о том времени, когда открыто торговали избирательными голосами. В это время уже не заботились более о приобретении общественных должностей за деньги, так как находили более удобным захватывать их силой. Каждая партия отправлялась спозаранку на Марсово поле. По дорогам, ведшим к нему, происходило немало столкновений. Все спешили прийти раньше своих противников, а если эти уже успели опередить, то на них нападали, чтобы прогнать: естественно, что должности доставались тем, кто оставался хозяином положения. Среди всех вооруженных шаек никто не был в безопасности. Приходилось укреплять даже свои дома, чтобы можно было противостоять неожиданному нападению. Выходить из дома можно было не иначе как под конвоем гладиаторов и рабов. Чтобы перейти из одного квартала в другой, нужно было принимать столько же предосторожностей, как при переходе через неизвестную страну, а всяким встречным на перекрестках пугались не меньше, чем встречам в чаще леса. В центре Рима случалось происходили настоящие сражения и правильные осады. Считалось обычным явлением поджечь дом врага, хотя бы и с опасностью сжечь весь квартал, а под конец ни одно народное собрание, ни одни выборы не обходились без кровопролития. «Тибр, — говорит Цицерон, вспоминая одну из этих схваток, — был переполнен трупами граждан, все общественные стоки были также полны ими, и приходилось губками осушать кровь, стекавшую с форума».
Вот в каких жестоких конвульсиях погибала римская республика и на какие унизительные беспорядки тратились ее последние силы.
...С таким народом республика была уже невозможна. Вполне понятно, что историк, изучающий издали события прошлого и видящий, как в Риме погибла свобода, утешает себя, говоря, что гибель эта была заслуженна и неизбежна и что он готов простить или даже одобрить того человека, который, низвергая свободу, был в сущности лишь орудием необходимости или справедливости. Но могли ли думать так же, как мы, и так же легко примириться с падением республики жившие в то время люди — люди, привязанные к республиканскому правлению и по традиции и по воспоминаниям, всегда помнившие великие, совершенные им дела и обязанные ему и своим положением, и своею известностью, и своим значением? Прежде всего, это республиканское правление было налицо. С его недостатками примирились, так как с ними уже сжились. От них не так сильно страдали, потому что к ним уже привыкли. Напротив, никто еще не знал, какова будет та новая власть, какой хотят заменить республику.
Кроме того, было вполне естественно, что падение республики не представлялось им столь близким и безусловным, как нам. С государствами случается то же, что и с людьми, после смерти которых находятся тысячи причин для того — причин, никем и не подозреваемых при жизни. Пока колеса этого старого правительства еще двигались, нельзя было заметить, насколько испорчена вся машина. Цицерон несколько раз испытывал приступы глубокого отчаяния, и в такие моменты он объявлял своим друзьям, что все потеряно, но эти моменты длились недолго, и он быстро обретал вновь и надежду и мужество. Ему думалось, что все еще можно исправить путем твердости, убеждения и взаимного согласия лучших из граждан и что истинная свобода легко исцелит все недостатки и злоупотребления. Он ни разу не заметил всей близости и серьезности опасности. В самые плохие дни мысль его не идет далее интриганов и честолюбцев, тревоживших общественное спокойствие; он постоянно обвиняет то Катилину, то Цезаря или Клодия и думает, что все будет спасено, если удастся их одолеть.
Но он очень ошибался. И Катилина, и Клодий были лишь проявлениями более серьезного и неизлечимого недуга; но следует ли порицать его за то, что он питал эту надежду, как бы несбыточна она ни была? Пусть называют их, если угодно, слепцами и глупцами, они могут гордиться, что не были чересчур проницательны, так как некоторые заблуждения и иллюзии стоят куда дороже слишком легкой уступчивости.
Настоящей свободы в Риме уже не было, с этим я согласен, от нее оставалась лишь одна видимость, но и видимость эта что–нибудь да значила. Нельзя предъявлять претензии к тем, кто ценит и эту видимость и делает отчаянные попытки не дать ей погибнуть, потому что этот призрак, эта видимость утешает их в потере истинной свободы и внушает им некоторую надежду снова завоевать ее. Так думали все честные люди, подобные Цицерону, когда они по зрелом размышлении, без увлечения, без страсти и даже без надежды все примкнули к Помпею; именно эти переживания вкладывает Лукан в уста Катона в тех своих удивительных стихах, которые, по моему мнению, должны выражать чувства всех хотя и отдававших себе ясный отчет о печальном положении республики, но тем не менее упорно продолжавших защищать ее до конца. «Подобно тому, как отец, потерявший своего ребенка, находит себе утешение, устраивая его похороны, зажигает своими руками погребальный костер и расстается с ним с сожалением лишь в самую последнюю минуту, так и я, о Рим, не покину тебя, пока не увижу тебя мертвым у себя на руках. Я последую до конца за одним твоим именем, о свобода, даже и тогда, когда ты будешь лишь обманчивою тенью!»
|
|
</> |

 Большие займы в Краснодар на выгодных условиях: как найти лучшие предложения без переплат
Большие займы в Краснодар на выгодных условиях: как найти лучшие предложения без переплат  Невидимый шлагбаум
Невидимый шлагбаум  Утренний глоток поэзии
Утренний глоток поэзии  Ну как бы вот, впервые в мире
Ну как бы вот, впервые в мире  После дождя
После дождя  Русская Атлантида
Русская Атлантида 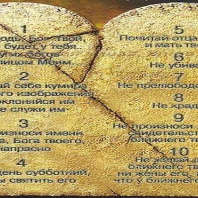 Стоит ли жить по заповедям?
Стоит ли жить по заповедям?  Та вода, что у причалов, и которая вдали...
Та вода, что у причалов, и которая вдали...  Сколько длится гибридная война против России?
Сколько длится гибридная война против России? 



