С. Смоленский о «Крымской катастрофе»
 kibalchish75 — 17.11.2024
Из книги С. Смоленского «Крымская
катастрофа».
kibalchish75 — 17.11.2024
Из книги С. Смоленского «Крымская
катастрофа».Крымская катастрофа поразила своей неожиданностью. Кто мог предполагать, что полугодовая упорная работа генерала Врангеля по воссозданию России и вдохновленная им Русская армия могут быть столь стремительно уничтожены одним ударом красного меча?
Трудно сказать, предвидело ли даже само Главное Командование возможность подобной катастрофы и готовилось ли оно к ней? Правда, из заявления, сделанного недавно генералом Врангелем представителям печати, следует, что эвакуация Крыма для Командования не явилась неожиданностью. Но эти слова, по-видимому, относятся к моменту кризиса последней операции в Северной Таврии, т. е. к тому моменту, когда, собственно говоря, уже началась эвакуационная работа в широком смысле. Конечно, в это время разрабатывать планы эвакуации было уже поздно.
Иначе как можно себе объяснить отсутствие предварительного соглашения с каким-нибудь иностранным государством об условиях принятия эвакуируемых остатков армии, беженцев, военных и торговых судов и прочего имущества? Подобная ошибка повлекла за собой вынужденное поднятие французских флагов на русских военных и торговых кораблях в знак передачи себя, без всяких предварительных условий, под покровительство Франции.
170 тысяч русских патриотов, погруженных на 120 судов, очутились без хлеба и воды, выброшенными на милость и великодушие бывших союзников.
/От себя: разве это не прекрасно – 170 тысяч русских патриотов, уплывающих из России в Турцию под французскими флагами и отдающих за это свои корабли французам?/
А еще недавно было время, когда Русская армия стойкой стеной отражала атаки красных… и с ней принуждены были разговаривать Великие Державы.
Кого же винить в самой катастрофе?
Было бы более чем неправильно обвинять одно какое-либо лицо, или объяснять происшедший разгром одною какою-либо причиной, или одним каким-либо актом. Целая совокупность политических, экономических и военных фактов привела Русскую армию с последнего клочка родной земли в концентрационные лагери Лемноса и Галлиполи.
...
Едва установилась связь со ставкой генерала Врангеля, как оттуда было получено приказание перейти в решительное наступление...
Но это приказание оказалось мертвым.
Кто мог остановить эту неудержимую лавину перемешавшихся частей, парков и обозов?..
Все эти части были совершенно небоеспособны. Ими были понесены огромные потери в людях (главным образом дезертирах)...
С отходом в Крым началась агония Русской армии. Полки, растерявшие свои базы, хозяйственные части, лишенные питания и размещения, оставались сосредоточенными в районе севернее Джанкоя...
Отсутствие помещений создавало кошмарные условия размещения. По несколько ночей подряд офицеры и солдаты просиживали у костров.
Все прекрасно знали, что имеются громадные запасы теплого обмундирования, белья, полушубков, папах и сапог. Но все это было на складах, а многие части ходили без шинелей и френчей, солдаты, чтобы хоть как-нибудь согреться, одевали на себя мешки, набитые соломой, теряя воинский вид и напоминая оборванцев.
В Крыму вся оборона его была поручена генералу Кутепову...
Вместо какого-либо отдыха и выделения хоть некоторой части в маневренный резерв ген. Кутепов предпринял сразу же большую перегруппировку...
30 Октября войскам Русской армии был объявлен приказ об эвакуации. В нем говорилось, что Главнокомандующий желает спасти кадр лучших офицеров и солдат, которые ни в коем случае не могут, не рискуя быть расстрелянными, оставаться в Крыму. В том же приказе Главнокомандующий просил всех офицеров, могущих безнаказанно остаться при советском режиме, не обременять эвакуации. /От себя: то есть сами белые понимали, что тем, кто не запятнал себя военными преступлениями, ничего не грозит./ В приказе ничего не говорилось, куда армия будет вывезена.
Подобный приказ окончательно разложил армию, большая часть солдат оставалась в деревнях, встречавшихся на пути отступления. Оставалось также много офицеров. Все орудия, пулеметы и лошади бросались по дороге…
Пехотные части отходили на Севастополь, конные на Ялту, кубанцы в Феодосию, донцы в Керчь...
Юшуньская группа Русской армии отступила настолько быстро, что части, находившиеся на Сиваш-Чонгарском участке, оказались в крайне тяжелом положении, будучи отрезанными от Симферополя.
…когда утром 1-го Ноября в Севастополь вступил последний арьергард Русской армии, для него уже не оказалось места на пароходах. В Килен-бухте, где происходила погрузка, наблюдались душу раздирающие сцены за жизнь, за места на пароходах.
Генерал Врангель с ближайшими чинами своего штаба обратился на Графской пристани с последним приветствием к группе обывателей и чинам своего конвоя и под звуки Преображенского марша перешел на катер, а затем на крейсер «Генерал Корнилов». На грот-мачте взвился флаг Главнокомандующего. С стоявших на рейде судов донеслось слабое «ура»; где то громко пели молитву.
В городе раздавалась одиночная ружейная стрельба. Оставшиеся без места на пароходах, столпившись на Графской пристани и Приморском бульваре, с проклятиями провожали уходивший в открытое море караван судов.
Так кончился Крымский период гражданской войны.
|
|
</> |

 Как проверка договоров на предприятии снижает убытки на 40%
Как проверка договоров на предприятии снижает убытки на 40% 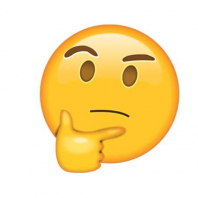 Сервис Госуслуги стоит ли тех бед, что с его помощью приносят русским людям
Сервис Госуслуги стоит ли тех бед, что с его помощью приносят русским людям  На выборгских развалинах. Часть 363.
На выборгских развалинах. Часть 363.  ConqWEEEEEEKstadors)
ConqWEEEEEEKstadors)  Battlefield 6. Трейлер
Battlefield 6. Трейлер  Китти Спенсер с мужем и дочерью дома в Хэмптонс
Китти Спенсер с мужем и дочерью дома в Хэмптонс  Фантастический круиз, или Ответный высрел
Фантастический круиз, или Ответный высрел  Nebeneinander
Nebeneinander 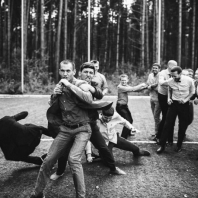 Наблюдения-2025-07-31. Как начинаются и заканчиваются драки
Наблюдения-2025-07-31. Как начинаются и заканчиваются драки 



