Россию можно любить по-разному: Урок от Набокова на все времена
 tuchiki — 22.04.2025
tuchiki — 22.04.2025

А вы знаете, что день рождения Набокова, так же как Песах в галуте, нужно праздновать два дня подряд, и 22 и 23 апреля. В любом случае, в последнюю неделю апреля есть повод для нескольких любопытнейших историй о Набокове.
Вступление
Набоков родился 22 апреля 1899 года.
Тем не менее, он отмечал этот день 23-го апреля. Именно эта дата стоит в американском паспорте Набокова. Формально считается, что перенос даты на один день произошел из-за введенного в 1900-ом году пересчета на григорианский календарь.
Однако многие набоковеды полагают, что истинным поводом перенесения Набоковым своего дня рождения с 22 на 23 апреля, было стремление дистанцироваться от своего ненавистного тезки Владимира Ульянова (Ленина).
Любопытно, что вплоть до 1924 года и даже позже, день рождения Ленина тоже официально отмечался 23 апреля. В его трудовой книжке также записано, что он родился 23 апреля 1870 года. Почему? Оказывается, 22 апреля родился также А. Ф. Керенский. Поэтому любитель фальшивок, Ленин, сменил дату своего рождения с 22 на 23 апреля.
Ленина Набоков должен был ощущать своим двойником-антиподом, т. к. они родились в один день, носили одинаковые имена (означает - владеющие миром), и оба воспринимались современниками как люди, разыгрывающие партии не только за шахматной доской, но и переносящие законы шахматной игры в искусство или политику.
История первая – Набоков и десятилетие Октябрьского Переворота
К десятилетию переворота, задуманного и осуществленного одним Владимиром, другой, лишившись после этого «рая своего детства» и оказавшись в изгнании, пишет в Париже свое знаменитое эссе "К десятой годовщине октябрьского переворота 1917 года". Дочитываешь его до конца, и веришь, что никто, никогда, ни на одном другом юбилее не произнес слов более прекрасных, горьких и страшных, чем эти:
«В эти дни, когда тянет оттуда трупным запашком
юбилея,--отчего бы и наш юбилей не попраздновать? Десять лет
презрения, десять лет верности, десять лет свободы —
неужели это не достойно хоть одной юбилейной речи?
Нужно уметь презирать. Мы изучили науку презрения до совершенства.
Мы так насыщены им,
что порою нам лень измываться над его предметом. Легкое
дрожание ноздрей, на мгновение прищурившиеся глаза — и
молчание.
Но сегодня давайте говорить.
Десять лет презрения... Я презираю не человека, не рабочего
Сидорова, честного члена какого-нибудь Ком-пом-цом..., а
ту уродливую тупую идейку, которая превращает русских простаков в
коммунистических простофиль, которая из людей делает муравьев,
новую разновидность, formica marxi var. lenini (Муравей
марксистский, разновидность ленинская (лат.)). И мне невыносим тот
приторный вкус мещанства, который я чувствую во всем большевицком.
Мещанской скукой веет от серых страниц "Правды", мещанской злобой
звучит политический выкрик большевика, мещанской дурью набухла
бедная его головушка.
Говорят, поглупела Россия; да и немудрено... Вся она расплылась
провинциальной глушью — с местным львом-бухгалтером, с
барышнями, читающими Вербицкую и Сейфуллину, с убого-затейливым
театром, с пьяненьким мирным мужиком, расположившимся посередине
пыльной улицы.
Я презираю коммунистическую веру как идею низкого равенства, как
скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание
земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое
свободное "я", как поощрительницу невежества, тупости и
самодовольства. Сила моего презрения в том, что я, презирая, не
разрешаю себе думать о пролитой крови. И еще в том его сила, что я
не жалею, в
буржуазном отчаянии, потери имения, дома, слитка золота,
недостаточно ловко спрятанного в недрах ватерклозета. Убийство
совершает не идея, а человек,-- и с ним расчет особый,-- прощу я
или не прощу — это вопрос другого порядка. Жажда мести не
должна мешать чистоте презрения. Негодование всегда беспомощно. И
не только десять лет презрения...
Десять лет верности празднуем мы. Мы верны России не только так,
как бываешь верен воспоминанию, не только любим се, как любишь
убежавшее детство, улетевшую юность, — нет, мы верны той
России, которой могли гордиться, России, создавшейся медленно и
мерно и бывшей огромной державой среди других огромных держав. А
что она теперь, куда ж ей теперь, советской вдове, бедной
родственнице Европы?.. Мы верны ее прошлому, мы счастливы им, и
чудесным чувством охвачены мы, когда в дальней стране слышим, как
восхищенная молва повторяет нам сыздетства любимые имена. Мы волна
России, вышедшей из берегов, мы разлились по всему миру,-- но наши
скитания не всегда бывают унылы, и мужественная тоска по родине не
всегда мешает нам насладиться чужой страной, изощренным
одиночеством в чужую электрическую ночь на мосту, на площади, на
вокзале. И хотя нам сейчас ясно, сколь разны мы, и хотя нам кажется
иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч Россий, подчас
убогих и злобных, подчас враждующих между собой,-- есть, однако,
что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который
поймет и оценит будущий историк.
И заодно мы празднуем десять лет свободы. Такой свободы, какую
знаем мы, не знал, может быть, ни один народ. В той особенной
России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас,
пропитывает душу, окрашивает сны,-- нет ни одного закона, кроме
закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести.
Мы о ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и
никакая цензура нам не ставит преграды, мы свободные граждане нашей
мечты. Наше рассеянное государство, наша кочующая держава этой
свободой сильна, и когда-нибудь мы благодарны будем слепой Клио за
то, что она дала нам возможность вкусить этой свободы и в изгнании
пронзительно понять и прочувствовать родную нашу страну.
В эти дни, когда празднуется серый, эсэсерый юбилей, мы празднуем
десять лет презрения, верности и свободы. Не станем же пенять на
изгнание. Повторим в эти дни слова того древнего воина, о котором
пишет Плутарх: "Ночью, в пустынных полях, далече от Рима, я
раскинул шатер, и мой шатер был мне Римом".
Набоков всю жизнь страдал неизлечимым и мучительным недугом - "тоской по дому". В названии лучших его стихов всегда есть слово "Россия" или "Родина" или "Петербург"…
... И если правда, что намедни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,
как на покатой школьной парте,
совьешься ты подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.
Вместе с тем, в 44-ом, во время кровавых боев Красной Армии с Гитлером, когда в русском зарубежье возобладали примиренческие настроения, Набоков посмел отважно противопоставить им эти великолепные в своем одиноком бесстрашии строчки:
Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства — нет, о нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
увольте, я еще поэт.
Россию можно любить по-разному: Урок от Набокова на все
времена.
История вторая - Как Набоков княгиню Шаховскую проучил

В 1959-ом, после триумфа "Лолиты" и впервые после 19 лет
разлуки, Набоковы отправились в Европу. Престижное парижское
издательство «Галлимар» устроило роскошный прием в честь прибывшей
из Америки знаменитости. На приеме, в числе прочих гостей, были
давние приятельницы Набоковых, благодаря которым, два скромных, но
необычайно поучительных эпизода этой встречи вошли в биографию
писателя.
" В комнатах толклись издатели, корреспонденты газет и радио, литераторы, критики. Сверкали блицы, слышалась разноязычная речь. В центре внимания был в тот день высокий, довольно тучный американский писатель русского происхождения — Владимир Набоков, автор нашумевшей «Лолиты». Многие здесь помнили его худеньким, порывистым, устремленным вверх, неистовым, полунищим. Одни из этих людей были приглашены им, другие пришли сами. Почти никто из этих русских не видел его последние девятнадцать лет, которые тут, в Европе, равны были столетию прежней жизни, — столько вместили они страха, горя, потерь… Его друзья переменились, но и он был настолько неузнаваем, что они ахали, забывая совершенно о том, как изменились сами…
Среди приглашенных в «Галлимар» на коктейль была его старая берлинская знакомая Женя Каннак. Она вспоминала:
«…множество народа, французские писатели, русские, много
иностранцев. Оба Набоковы были очень элегантны, держались с большим
достоинством. Вокруг Н. вертелись издатели, — помню представителя
„Ророро“ (Ровольт), который обратился к нему с приглашением:
непременно приезжайте к нам, у вас столько преданных читателей —
почему вы ни разу после войны не были в Германии?
И он — очень спокойно: „По той же причине, по какой я никогда не
был в России, хотя меня и звали: я бы всегда боялся, сам того не
зная, пожать руку убийце“.
Немецкий издатель промолчал, отступил и испарился».
Но самое яркое описание этой встречи мы находим, конечно, у бывшей
милой приятельницы Набокова княгини Зинаиды Шаховской, которую сам
Набоков на прием не пригласил. Может быть, Вера Евсеевна помнила их
довоенную ссору *. И уж, наверно, супруги не успели забыть совсем
недавнюю статью З. Шаховской о Набокове, содержавшую не только
обвинения в аморализме, но и будто ожившие после двадцати лет
небытия обвинения в нерусскости, в инфернальности. З. Шаховская
пришла на прием как журналистка и ждала с другими журналистами в
редакционной комнате. Она рассказывает:
«В тесноте и жаре мы ждали, пока он появится среди нас. Он вошел, и
длинной вереницей, толкая друг друга, гости двинулись к нему. Годы
ни его, ни меня, конечно, не украсили, но меня поразила, пока я к
нему приближалась, какая-то внутренняя, не только физическая — в
нем перемена. В. обрюзг, в горечи складки у рта было выражение не
так надменности, как брезгливости, было и некоторое омертвение
живого, подвижного в моей памяти, лица. Настал мой черед, и я,
вдвойне тронутая радостью встречи и чем-то, вопреки логике, похожим
на жалость, собиралась его обнять и поздравить — но, когда он
увидел меня, что-то в В. закрылось. Еле-еле пожимая мою руку,
нарочно не узнавая меня, он сказал мне: „Bonjour, Madame“.
Я всякое могла ожидать, но это — это не было похоже на В. Скажи он
мне: „Ну, милая моя, и глупости же ты обо мне написала“, или „а
статья твоя идиотская“, я сочла бы это даже нормальным… но такая
удивительная выходка человека, которого я помнила воспитанным,
показывала в нем что-то для меня новое — и неприемлемое… В тот день
я потеряла друга…»
Можно добавить, что Набоковы приобрели в тот день врага, ставшего в
какой-то степени и их первым русским жизнеописателем, — не слишком
счастливое сочетание…"
* В 1939-ом происходит последний разговор (и разрыв) Зинаиды
Шаховской с Верой Набоковой. В начале войны, вскоре после выхода
написанных по-французски воспоминаний о детстве, Шаховская зашла к
Набоковым. В.В. Набокова она дома не застала, и вот тут, по
свидетельству Шаховской, у нее и состоялся неприятный разговор с
Верой, которая обвинила ее в антисемитизме, из-за приведенного в
мемуарах Шаховской воспоминания о комиссарше еврейской наружности,
приказавшей расстрелять двух мальчиков-кадетов.
Сообщив в своей книге, что Вера Набокова в этом их
разговоре скатилась на позиции расизма и огульно обвиняла «весь
русский народ», Зинаида Шаховская пишет, что это «презрение к
русскому народу» ее «не обрадовало», что особенно она была
«обеспокоена позицией Набокова».
История третья - Из гастроэнтерологического по
Набокову
В день высадки союзников в Европе, 6 июня 1944-го года у
Набокова, после скромного обеда в соседнем с местом работы
ресторанчике, случилось тяжелейшее пищевое отравление. Можно с
уверенностью сказать, что он чудом остался жив. Это
гастроэнтерологическое приключение он описал в письме к своему
близкому американскому другу, литературному критику Эдмунду
Уилсону. Дочитав письмо, полное детальных описаний приступов
фонтанирующей рвоты вперемешку с неудержимым поносом, я сама с
изумлением обнаружила, что мне жалко оборванного Бойдом (биографом
Набокова) письма, и всего того, что Набоков мог еще порассказать о
своем гастроэнтерологическом приключении. Кто-то пишет о
романтических чувствах к женщине или о любви к Родине - а
выходит - унылая скука, а то и пошлость непереносимые. А Набоков -
о пищевом отравлении, да так, что хочется, чтобы он еще пару дней в
больнице провалялся и все в письме к Банни - Bunny (так он
обращался к Уилсону в письмах) подробно описал. Еще одно
доказательство, что тема, для таких как Набоков, практически, не
имеет значения.
8 июня 1944-го года Набоков писал Эдмунду Уилсону:
«В день высадки союзников некие «бациллы» по ошибке приняли мои
внутренности за береговой плацдарм. Я пообедал виргинской ветчиной
в маленьком Wursthausвозле Гарвард-Сквер и безмятежно исследовал
гениталии экземпляров из Хавила, Керн, Калиф. в Музее, когда вдруг
ощутил странную волну тошноты. Причем до этого момента я чувствовал
себя абсолютно и непомерно хорошо и даже принес с собой теннисную
ракету, дабы поиграть с моим другом Кларком (эхинодермы — если ты
понимаешь, что я имею в виду) в конце дня. Внезапно, как я уже
сказал, мой желудок всплеснулся с ужасным возгласом. Я кое-как
сумел добраться до выхода из Музея, но, не достигнув газона, что
было моей жалкой целью, изверг из себя, а точнее под себя, прямо на
ступени, целый ассортимент: куски ветчины, шпинат, немного пюре,
струю пива — всего на 80 центов. Тут меня скрутили мучительные
колики, и мне едва хватило сил добраться до уборной, где поток
коричневой крови хлынул из противоположной части моего несчастного
тела. Поскольку во мне есть героическая жилка, я заставил себя
подняться по лестнице, запереть свою лабораторию и оставить в
кабинете Кларка записку, отменяющую игру в теннис. Потом я побрел
домой, и меня рвало через каждые три шага, к большому веселию
прохожих, думавших, что я перестарался, отмечая высадку
союзников.
А надо вам сказать, дорогие Банни и Мэри, что накануне Вера с
Дмитрием уехали в Нью-Йорк удалять аппендикс [Дмитрию]… так что,
когда я наконец вполз в квартиру, я был совсем один и абсолютно
беспомощен. Смутно вспоминаю: раздеваюсь между чудовищными
центральными и периферийными выбросами; лежу на полу в моей комнате
и выпускаю потоки ветчины и крови в корзину для бумаг;
спазматическими рывками продвигаюсь к телефону, который кажется
недостижимым, поскольку стоит на непомерно высоком рояле. Я сумел
смести аппарат на пол и, собравшись с последними силами, набрал
номер Карповича…
Когда [жена Карповича] услышала, как я задыхаюсь в телефон и молю о
помощи, она сказала: пожалуйста, не валяйте дурака — так обычно и
случается с юмористами — и мне пришлось долго убеждать ее, что я
умираю. По ходу дела меня вырвало в телефон, чего, я думаю, еще
никогда ни с кем не бывало. Поняв наконец, что что-то не так, она
вскочила в машину и минут десять спустя нашла меня в полуобморочном
состоянии в углу комнаты. Никогда в жизни у меня не было таких
невыносимых и унизительных болей. Она вызвала «скорую помощь», и в
мгновение ока появились двое полицейских. Они хотели знать 1) кто
эта дама и 2) какой яд я принял. Этого романтического тона я
вынести не мог и откровенно выругался. Тогда они понесли меня вниз.
Носилки не подходили к нашей лестнице (американская практичность),
и меня, извивающегося и кричащего, тащили на руках двое мужчин и
госпожа Карпович. Несколько минут спустя я сидел на жестком стуле в
ужасной комнате, на столе вопил негритянский младенец — это была,
вообразите себе, Кембриджская городская больница. Юный
студент-медик (т. е. изучавший медицину всего 3 месяца) опробовал
смехотворную и средневековую процедуру накачивания моего желудка
через резиновую трубку, вставленную в нос. Но беда в том, что моя
левая ноздря так сужена внутри, что в нее ничего невозможно
пропихнуть, а правая имеет форму буквы S… Поэтому неудивительно,
что трубка не пролезала, и все время, конечно, я испытывал адские
боли. Когда до меня дошло, что несчастный юнец ни на что не
способен, я твердо попросил госпожу Карпович увезти меня — куда
угодно, и даже подписал документ, что я отказываюсь от помощи.
После этого у меня случился сильнейший приступ рвоты и le reste—
смешно, что в туалете невозможно делать и то и другое одновременно,
поэтому я все время скатывался и скрючивался, поворачиваясь то
одной, то другой стороной.
Госпожа Карпович вспомнила, что в 6 часов вечера (было как раз
около того) к ее больному мужу должен прийти доктор. Ленивый и
малочисленный персонал снес меня к такси, и вот, после невероятных
страданий, я уже дрожал под пятью одеялами на кушетке в гостиной у
К. К тому времени я был в состоянии полного бесчувствия, и когда
появился доктор (симпатичный малый), ему не удалось найти у меня ни
пульса, ни давления. Он стал звонить по телефону, и я услышал, как
он говорит «необычайно тяжелый случай» и «нельзя терять ни минуты».
Пять минут спустя (совсем забыв о бедном господине Карповиче…) он
все устроил, и я в мгновение ока очутился в лечебнице «Маунт-Обри»…
в полуотдельной палате — «полу» обозначает старика, умиравшего от
острого сердечного расстройства (я всю ночь не мог спать из-за его
стонов и ahannement— он умер к рассвету, сказав неизвестному
«Генри» что-то вроде: «Мой мальчик, нельзя так со мной поступать.
Давай по совести» и т. д. — все очень интересно и полезно для
меня). В лечебнице в мои вены влили две или три кварты соляного
раствора — всю ночь и большую часть вчерашнего дня я пролежал с
иглой в руке. Доктор сказал, это пищевое отравление, и назвал его
«гемор. колит»… Тем временем меня перевели (несмотря на мои
протесты) в общую палату, где по радио передавали пылкую музыку,
рекламу сигарет (сочным голосом от всего сердца) и остроты, пока
наконец (в 10 часов вечера) я не завопил, чтобы медсестра
прекратила это издевательство (к большому недовольству и удивлению
персонала и пациентов). Это любопытная деталь американской жизни —
на самом деле они не слушают радио, все разговаривали, рыгали,
гоготали, острили, флиртовали с (очень обаятельными) медсестрами,
не прекращая, — но, очевидно, невыносимые звуки, доносившиеся из
этого аппарата (строго говоря, радио я здесь услышал впервые, если
не считать кратких спазмов в чужих домах и в вагонах-ресторанах во
время моих путешествий), служили «живым фоном» для обитателей
палаты, потому что как только радио смолкло, воцарилась полная
тишина, и я вскоре заснул. Сегодня утром (четверг, 8-е число) я
чувствую себя совсем хорошо — хорошо позавтракал (конечно же, яйцо
мне дали крутое) и попытался принять ванну, но был пойман в
коридоре и водворен обратно в постель. В данный момент меня вывезли
на балкон, где я могу курить и наслаждаться своим воскресением из
мертвых. К завтрашнему дню надеюсь быть дома.»
Когда его вновь привезли в палату, там оказалось не так уж уютно:
радио, болтовня, шестнадцатилетний мальчик, повсюду ходивший за
персоналом и передразнивавший стоны пожилых пациентов. Чтобы
заглушить шум, Набоков задернул занавеску вокруг кровати в надежде
отдохнуть или проштудировать медицинский словарь, который ему
удалось выхватить из шкафа, когда его провозили по коридору.
Медсестры отдернули занавески, поскольку они означали внезапную
смерть пациента, и конфисковали книгу как чересчур специальную.
Всего этого Набоков уже не мог вынести (двадцать лет спустя он
заметил в интервью, что «в больницах по-прежнему есть нечто от
сумасшедшего дома восемнадцатого века»), и когда в приемные часы
явилась госпожа Карпович, он, как заговорщик, на непонятном
остальным русском, описал ей план побега. Она вернулась к машине,
он, как бы прогуливаясь, прошагал к открытой боковой двери и в
одном халате побежал к поджидавшему автомобилю. Двое санитаров
кинулись в погоню — но безуспешно. С тех пор больше никто никогда
не пытался засадить Набокова в коммунальную клетку.
История четвертая - Яйца в мешочек —
по Набокову
Писатель поделился этим незатейливым рецептом, изложенным в своей неподражаемой саркастической манере, с американским журналом Harper’s Magazine. По прочтению хочется все бросить, и бежать на кухню варить себе яйца, и непременно — в мешочек.
1.Вскипятите воду в небольшой кастрюле (пузырьки означают, что вода кипит!). Достаньте из холодильника два яйца (по одному на человека). Поместите их под горячую воду из-под крана, чтобы подготовить к тому, что их ждёт.
2. По одному опускайте яйца в кастрюлю, так, чтобы они беззвучно соскользнули в (кипящую) воду. Засеките время на своих наручных часах.
3.Стойте над яйцами с ложкой в руке, не давая яйцам (а они, несомненно, попытаются) стукнуться о дурацкую стенку кастрюли. Но если, несмотря ни на что, яйцо всё-таки треснуло в воде (сейчас вода пенится как сумасшедшая) и извергает облака белой субстанции, подобно медиуму на старомодном спиритическом сеансе, выловите его и выбросьте.
4.Возьмите ещё одно яйцо и теперь будьте аккуратнее. Через 200 секунд или, например, 240 (учитывая возникшие помехи), начинайте вытаскивать яйца.
5.Выложите их в пашотницу, тупым концом вверх. Чайной ложечкой обстучите яйцо по кругу и затем снимите «крышечку» с яйца. Пододвиньте соль и сделайте себе бутерброд с хлебом (белым) и маслом. Ешьте.
Ну, и на посошок, Набоков обращается к нам, своим будущим читателям:
Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
И будешь ты, как шут, одет на вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время — раковина муз.
Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией... Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.
Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого... Прощай же. Я доволен. 1930

 Правовая защита при банкротстве компании: как не отвечать личным имуществом за долги фирмы
Правовая защита при банкротстве компании: как не отвечать личным имуществом за долги фирмы  Иерихон или, все же, Ярихо? Кто строил первые города на Ближнем Востоке?
Иерихон или, все же, Ярихо? Кто строил первые города на Ближнем Востоке? 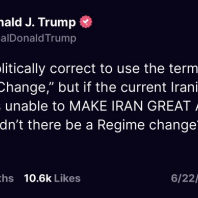 MIGA vs. MAGA
MIGA vs. MAGA  Об особом цинизме Азербайджан перешёл все границы?
Об особом цинизме Азербайджан перешёл все границы?  Ледяной телескоп
Ледяной телескоп  Авианосец "Шаньдун"
Авианосец "Шаньдун"  Анекдоты и шутки в картинках. 204. Собаки.
Анекдоты и шутки в картинках. 204. Собаки.  Инцидент 7 июля
Инцидент 7 июля  Доброе утро!
Доброе утро! 



