Репортаж с литовской границы о железном занавесе, получках и белорусском пути
 dymontiger — 10.02.2021
У Гераненского выступа, где Литва вгрызается в Беларусь, мы
свернули на лесную дорожку и перестали дышать. Мы оказались в
сказочном лесу. В воздухе кружилась белая пыль. Матерились
замерзшие зайцы, белки-иностранки хрустели орехами из Maxima в
обставленных IKEA дуплах. Я им завидовал. И вглядывался в даль,
ожидая услышать лязганье гусениц и грозный окрик на чужеземном
языке. Мне чудились «Леопарды» с «Абрамсами», ползущие со стороны
Кракуная. Но вместо них в израненную новостями душу ударила с ветки
снегом ель. В проекте главреда Onliner Николая Козловича «Беларусь.
2021» — репортаж из приграничья о пути на Запад. Или на Восток.
dymontiger — 10.02.2021
У Гераненского выступа, где Литва вгрызается в Беларусь, мы
свернули на лесную дорожку и перестали дышать. Мы оказались в
сказочном лесу. В воздухе кружилась белая пыль. Матерились
замерзшие зайцы, белки-иностранки хрустели орехами из Maxima в
обставленных IKEA дуплах. Я им завидовал. И вглядывался в даль,
ожидая услышать лязганье гусениц и грозный окрик на чужеземном
языке. Мне чудились «Леопарды» с «Абрамсами», ползущие со стороны
Кракуная. Но вместо них в израненную новостями душу ударила с ветки
снегом ель. В проекте главреда Onliner Николая Козловича «Беларусь.
2021» — репортаж из приграничья о пути на Запад. Или на Восток.
Если вы колесили по стране от края до края, то знаете это удивительное ощущение ментальной телепортации. Тишина восточной Витебщины и настороженность центральной Могилевщины сменяются по мере движения на запад бодростью идей. Пропадают глухие заборы, в бывших местечках ключом бьет жизнь — бедная и средняя, настоящая, с летящими по заснеженному шоссе санями, валенками и мобильниками.

Проезжаем Ивье. Здесь молодежь, движ, а во мне просыпается приятное чувство узнавания: примерно так выглядит любой трудолюбивый польский или чешский городок. Да нет, ребята, планета не остановилась, как может показаться зимой 2021-го в захандривших интернетах. И в нашей «Европе» все тоже куда-то бегут.
Сегодня я ищу курс и ориентиры. Мы в Морино. Это большая деревня недалеко от райцентра. Рядом течет дерзкий «западник» Неман. В деревне несколько агроусадеб. Есть крутые дома, попадая в которые в разных точках Беларуси я всегда поражаюсь их скромным молчаливым хозяевам, умеющим заработать столько, сколько я не смогу никогда. На вопрос про доход они всегда отвечают тихо: «Крутимся понемножку».

— Сначала это была дача, — рассказывает управляющий усадьбой «Моринское» Владимир. — Потом подумали о бизнесе. Взяли шатер для торжеств. Достроили еще два дома, мини-гостиницу. Отделку и стиль придумал знакомый столяр. Все делали своими руками. Что-то брали из головы, что-то из журнала «Американские дома». Гости были в восторге. И понеслось. Дело пошло. Приезжают иностранцы, литовцы с поляками, россияне. С Востока и с Запада. Сейчас, конечно, тяжеловато.






— Раньше был детский садик, трехэтажная школа, дом быта, кирпичный завод. Теперь от него одна труба, — перечисляет Владимир. — Деревню держат дачники.
И предприниматели. Новая шляхта на очередном витке исторической спирали возвращается туда, где сдалась коллективная экономика, вспыхнув и загнувшись.
Михаил и дворец
Когда-то Михаил работал на государство, но почувствовал фатальное несовпадение по ДНК, ушел со службы, занялся своим делом. У него строительная фирма в Минске и миллион забот, которые преследуют каждого бизнесмена в эти смутные времена. Пару лет назад мужчина взял на себя грандиозную обузу: Глинский решил возродить одну из красивейших достопримечательностей Беларуси — бывший дворец Умястовских в Жемыславле.

В начале XIX века Жемыславль приобрел богатый шляхтич Якуб Умястовский. Он благочестиво занимался развитием имения. Построил спиртзавод. Воспитал толковых детей. Уже после его смерти в деревне появился главный ее символ — копия дворца последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, что в Лазенках под Варшавой. Прообраз строительства точно намекал на тот курс, который шляхта видела для себя, и то, о чем она тосковала.

«Жить надо так, как будто умрешь завтра, а работать надо так, как будто будешь жить вечно».
Мир тем временем готовился к потрясениям. В Первую мировую дворец и все, что создали Умястовские, были разграблены. Потом усадьба перешла к Виленскому университету. В советское время здание с королевскими амбициями символично отдали под правление совхоза. Восток в ментальной борьбе за дворец явно побеждал Запад. Но и это не было закатом времен. Уничтожил некогда величественный палац колхоз уже независимый — белорусский. В 2013-м здесь варили трубу и сожгли здание к чертям. Рациональные местные жители растащили все, что было можно, по домам.





— Я родился недалеко отсюда. Однажды приехал, услышал историю усадьбы, ошалел от уровня безответственности. Как это так — нам по наследству достался такой объект, а мы даже не смогли его для детей сохранить? Мужики варили отопление, все сгорело, два колхоза объединили, контора уехала — и все, как будто ничего и не было. Никого и не наказали. Еще продают в интернете местные «панские» шпингалеты, да лежат по колхозным складам сбитые молотком изразцы. Вот такое отношение к прошлому. В общем, как раз отвалился очередной инвестор, и я решил: попробую, ввяжусь.
План Михаила — сделать в Жемыславле туристический комплекс с гостиницей, рестораном, музеем, библиотекой. Согласно договору, несколько лет дается на проектирование. Потом начнется (он верит) стройка. Уже пришлось серьезно вложиться, чтобы укрепить конструкции. И еще предстоит. А тут как раз вокруг началась дичь.

— Это не коммерческий проект, это для души. Если комплекс сможет себя содержать, будет хорошо. Взяли в аренду озеро, запустили малька, организуем платную рыбалку. Это хотя бы покрывает зарплату сторожам. Вокруг вроде бы и агрогородок… Но, если все получится, сможем дать ему новую жизнь. Рабочие места. Понимаете, даже при советской власти усадьба жила. Да, своеобразно, да, председатель в камине жарил шашлык. Но это все хотя бы ремонтировалось, пускай и убого, по-советски. А потом начались другие годы. У меня есть мысль частично оставить внутри все эти следы после катастрофы — в назидание потомкам.

— Сегодня мир устроен так, что нужно двигаться, общаться, торговать, а не возводить заборы.

— Не так, — поправляет Михаил. — Не у меня. Пусть все получится у нас. Поймите, это не мое. Это наше. Я с собой дворец на тот свет не заберу.
Памятник надежде в Жемыславле или развалится, или встанет величественно символом перемен — третьего не дано.

В Трокелях учился Виктор Шейман, но этот факт будет интересен самым дотошным биографам современной Беларуси. В наших же ментальных поисках Трокели играют иную роль. Здесь расположен санктуарий Девы Марии, куда в былые годы устремлялись тысячи паломников из разных европейских стран. Считается, что хранящаяся здесь чудотворная икона Божией Матери Трокельской помогает прежде всего укреплять семьи. Объединяла она и верующих по обе стороны границы, связывала Беларусь с Европой (в одну семью — да, мне нравится пафос этих слов).

— Жизнь — это движение. Когда я шел сюда, то понимал, что надо что-то поменять, надо дать людям больше красоты. И если богу это угодно, то и деньги найдутся, и силы. И родится миссия. Моя — в том, чтобы наш санктуарий поднять, чтобы сюда тянулось больше и больше пилигримов и туристов. Возьмите Францию, Португалию, Польшу с ее Лихенем и базиликой Святой Богородицы. Все стремятся к такому.
Несколько лет назад мы начали обновление, которое продолжается по сей день. Недавно появились новые исповедальни. Потом займемся улицей. Туристу нужно чем-то любоваться, что-то фотографировать. Нужно то, что заденет душу. Фигурки, водопадики, маленькие строения, капличка — все это в планах. Еще мы купили на аукционе соседнее здание, где раньше была администрация колхоза, чтобы сделать там гостиницу, в которой пилигримы смогут остановиться.

— А если подпишут протокол и поставят печать, что нам в другую сторону?
— Это невозможно. Мы уже никогда не оторвемся. Беларусь — европейская страна. И никак по-другому. Нас выпустили посмотреть, как живет мир, и эти знания мы привезли с собой. А пандемия и закрытые границы — это всего лишь кусочек времени. Полгода, год, два. Но эти два года мы не должны спать. Лично я хочу, чтобы Трокели прогремели. Буду делать для этого все. Я никогда не понимал пословицы «Тише едешь — дальше будешь». Я не хочу так.
— Могут ли белорусы поехать быстрее?
— В каждом новом поколении хватает энергичных людей. Белорусы сильные. Я вижу и знаю это. Просто энергичным людям нужна свобода. Возьмите рыбку в аквариуме и возьмите в озере. Где свободы больше? Так и с белорусами.

Если каким-то чудом вы окажетесь на дороге M11 между Вороново и Лидой, сделайте крюк, чтобы заехать в деревню Жирмуны — место, где время начало обнуляться, стирая все, что было раньше. На въезде будет заколоченный постсоветский магазин, где не купишь уже и бутылочку «чернила». На выезде — триумфальная арка XVIII века, построенная Радзивиллами, а ныне пребывающая в состоянии жертвы артиллерийского обстрела.

В начале XVIII века Радзивиллы хотели превратить Жирмуны в одну из своих резиденций. Построили великолепную браму, два флигеля рядом с ней. Хотели построить дворец, но так и не начали.
Здания рушились. Арка будто бы была двухэтажной. Второй этаж разобрал колхоз. А рядом воздвигли другую доминанту — водонапорную башню. Арку уже в наше время обнесли хилым забором и оставили разрушаться в тишине.

А трудолюбивый белорус проложил рядом с аркой свою дорогу — чтобы ехать мимо по делам. Крутиться, крутиться, крутиться.

Года три назад городской поселок Радунь неожиданно для себя попал в сводки новостей. Оказалось, что вот-вот в «гэпэ» вложит десятки миллионов долларов израильский миллионер. Мультикультурность Гродненщины колоссальна: немногие знали, что именно здесь похоронен духовный лидер еврейского народа Хафец-Хаим.
В начале 2021-го нам ясно, что что-то пошло не так.




На рынке в Радуни под вечер почти такая же тишина. Роллеты в части боксов закрыты плотно. Что-то продается. «Ипэшники» говорят нам о том, что мы слышим в разных городках страны. На востоке и на западе. То, что объединяет все наши полюса. «Зарплата? По 300 бывает. И по 350».

Но крутятся же. А снег превращается в воду. И кто-то аплодирует сверху.

И вот я стою в волшебном лесу, где-то там граница с Литвой, вскормившей гражданское общество в Беларуси коварными и губительными смыслами вестернизма (цитата из какого-то восточного СМИ). А в Минске скоро съезд КПСС. И я думаю: вернутся ли грустные молчаливые рыбки обратно в аквариум? Или нет? С кем нам дальше по пути?
В заснеженном и промерзшем феврале, оказавшись в местах, через которые обычно ехал в Вильнюс, я понимаю, что ответ на этот вопрос не имеет смысла. А сам вопрос дурацкий. Ведь белорусский компас уникален тем, что руководит сам собой. Он самый приспособленный на планете. Он показывает на запад, восток, север и юг тогда, когда это нужно.
Его стрелка крутится автономно от решений сверху, как крутится долгие века работящий белорус. Крутится — значит, живет.

©
|
|
</> |

 Банкротство физлиц: когда помощь юриста критична
Банкротство физлиц: когда помощь юриста критична  Кружатся диски
Кружатся диски  Динамика потребления электроэнергии в России
Динамика потребления электроэнергии в России  Mt. Bierstadt
Mt. Bierstadt  Легионеры.
Легионеры.  А у вас собственный портрет маслом имеется?
А у вас собственный портрет маслом имеется?  О бесконечном
О бесконечном 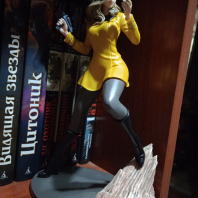 Ещё капитан на мостике!
Ещё капитан на мостике! 



