Подобное тянется к подобному
 otshelnik_1 — 13.06.2025
Захар Прилепин перепечатал у себя статью русского жителя
Молдавии
otshelnik_1 — 13.06.2025
Захар Прилепин перепечатал у себя статью русского жителя
МолдавииСтатья называется «Антисоветская кодла».(https://dzen.ru/a/ZxEHLJobWDY5J6x8).
«Правильные» статьи, как правило, дают гораздо больше оснований для конструктивного несогласия и продуктивных уточнений, нежели откровенный бред, который и читать-то не имеет смысла. Разделяя общий посыл статьи, должен отметить, что некоторые заблуждения ее автора, увы, имеют распростаненный характер, так что кое-что следует уточнить.
Конечно, это «кое-что» в журнале прозвучало уже не один раз (практически ничего другого здесь и нет). Но уточнения приходится повторять столько же раз, сколько раз сталкиваешься с заблуждениями.
Первый параграф статьи гласит:
«СССР – продолжение исторической России».
Ни малейших возражений.
Но вот дальше начинаются непонятки.
«Февральская революция, организованная кучкой самозванцев, подзуживаемых западными послами, и последовавший за ней развал государства и гражданская война – национальная трагедия. В Гражданской войне мои симпатии на стороне белых – вернее, той их части, которая сохранила верность лозунгу единой и неделимой России. К тем, которые играли в сепаратизм, в том числе на Дону и Кубани, не может быть ни симпатий, ни сочувствия.
Белое сопротивление было подавлено – по разным причинам. И тогда перед деятелями дореволюционной России и Белой гвардии встал вопрос: как дальше быть? Встало два пути – либо со своей Родиной и своим народом (разделяя их во многом трагическую судьбу) – или против них».
Удивительный винегрет!
Белое движение было реакцией Февраля на Октябрь. Его организовали и возглавили и в военном, и в политическом плане творцы Февраля, вот та самая «кучка самозванцев, подзуживаемая западными послами».
«Мои симпатии на стороне белых…»
«Симпатии…»
А вот мои симпатии на стороне «Pink Floyd», но я ни единого возражения не сделаю по адресу тех, чьи симпатии на стороне «Led Zeppelin».
Однако в данном случае речь-то идет не о «симпатиях», не о душевной склонности, а о содержании и основных смыслах исторического процесса.
Ни больше, ни меньше.
Ведь История – это судьба народа, и народ, который перестал адекватно воспринимать себя в Истории, обречен. И никакие «Орешники» в этой ситуации уже не помогут.
Ну, вот не любят многие наши патриоты большевиков. «Несимпатичные» они.
Не комильфо. Не слишком «национально» выглядят. Можно даже сказать интернационально. У таких патриотов историческая Россия продолжилась в форме СССР как-то «помимо» большевиков, типа «просочилась», типа «вопреки».
То ли дело «белые герои»… Даже издали видно – «истинно русские люди».
Такое ощущение, будто Логос в нашем обществе умер.
СССР в качестве продолжения исторической России на руинах РИ построили именно большевики. Они построили его на определенных идеологических основаниях, которые в целом были приняты в реальном масштабе времени большей частью населения страны. Они отстояли свой проект в условиях максимальной активности сплошь вооруженного (!) народа, что невозможно было сделать, без его поддержки.
При этом оппоненты большевиков были их полными идеологическими антиподами, до такой степени, что дело дошло до ожесточенной войны.
Но если РСФСР, а с 1922 года СССР - это историческая Россия, то к белым-то «симпатии» откуда?
Между кем выбирали-то? И между кем продолжают выбирать?
Между Роланом Быковым и Владимиром Высоцким?
В смысле - между Иваном Карякиным и поручиком Сашей Брусенцовым?
Не иначе!
Довыбирались...
* * * * *
Начну с цитаты В.И. Ульянова (Ленина), который является довольно редким гостем на страницах данного журнала. (Он и сегодня, сказав свое слово, сразу же покинет здешнее сборище отъявленных белогвардейцев).
«Условия, на которых мы согласны заключит мир с Колчаком, Деникиным и Маннергеймом, мы вполне точно, вполне ясно, письменно излагали много раз… Мы готовы заплатить все долги Франции, всем другим государствам, лишь бы мир был на деле, а не только на словах, то есть, чтобы он был формально подписан и утвержден правительствами: Англии, Франции, Соединенных штатов, Японии, Италии, ибо Деникин, Колчак, Маннергейм и прочие - простые пешки в руках этих правительств».
Вот так просто и ясно. Мы воюем с НАТО, пардон, с Антантой.
Мы не собираемся разговаривать с теми, кто ничего не решает.
Но может быть, Ильич, который согласно нашему официозу, «не любил русских», оболгал благородных «белых героев» перед наивными потомками?
Да ничуть.
Арнольд Тойнби рассматривая данный период в истории России, ничего особо «гражданского» на фоне национального и цивилизационного в упор не видит.
«Германцы, вторгшиеся в ее (России) пределы в 1915-1918 годах, захватили Украину и достигли Кавказа. После краха немцев наступила очередь британцев, французов, американцев и японцев, которые в 1918 году вторгались в Россию с четырех сторон».
Какой-нибудь булкохруст отчаянно завопит: «Где они вторгались, где дивизии и полки, которые вели активные боевые действия?»
Узбагойтесь, ваши благородии, поручики Брусенцовы. Белые господа-колонизаторы сами стараются воевать по минимуму, у них для этого есть местные аборигены, которые мнят себя по-европейски образованными защитниками «западной цивилизации» от «восточного варварства». Впрочем, о полках и дивизиях – ниже.
* * * * *
На юге страны хватало анклавов, исторически так или иначе отчужденных от Центральной России. Самый яркий пример – казачество, потому прозападные кадеты туда и устремились. Там хватало местный бойцов, оттого и интервенты на юге, хотя и высаживались на русскую землю, тем не менее, вглубь территории особо не продвигались. Они обеспечивали функционирование тогдашних «Хаймерсов» и «Абрамсов», то есть служили при артиллерийских батареях собственного производства и водили поставленные Деникину и Врангелю танки.
А вот на Русском Севере, в регионе достаточно моноэтническом, исконно русском, кстати, не знавшем крепостного права, потребовалась высадка и продвижение вглубь страны большого воинского контингента Антанты в десятки тысяч человек (в основном англичан), контингента, вооруженного по последнему слову техники.
Без вооруженного вмешательства англосаксов никакой Северной Области не возникло бы, не удалось бы там свергнуть Советскую власть.
Министр Просвещения Северной Области Б. Соколов вспоминал.
«Я застал архангелогородцев в состоянии совершеннейшего и глубочайшего безразличия к судьбам Северной Области…
Происходила курьезная вещь: защищали область, управляли ею, делали высшую и прочую политику люди чуждые, далекие Северному краю, приехавшие из Парижа, Финляндии, Совдепии (в смысле, кадеты, бежавшие оттуда – otshelnik_1)…
На упреки местному купечеству, что оно интересуется только ценами на треску, …оно спокойно в свою очередь спрашивало: «А мы разве просили приходить защищать нас от большевиков. Нам и с ними было не скверно…»
Архив Русской революции (АРР). Т 9, с. 33
Даже русской буржуазии на Севере было, в общем-то, пофиг.
Из интервью командующего британскими силами на Севере Айронсайда (лето 1919 года).
«Мы не понимаем русских. Скоро год, как мы на Севере России… Нас позвали. Мы хотели помочь Вашей борьбе против большевиков… И, однако, что же мы видим? Русские не хотят сражаться. Всюду на позициях стоим мы, а те, что есть, бунтуются, организовывают восстания, и мы же должны эти восстания подавлять. Это бесполезная затея…»
АРР. Т 9, с. 12.
«- Скоро год как мы здесь, а русской армии, как боевой единицы, еще не существует. Те несколько полков, что созданы при нашей помощи решительно никуда не годятся. Офицеры держат себя не достаточно корректно, а солдаты-большевики устраивают бунты… Недавно были восстания и заговоры в 3, 1, 6 и 5-ых полках. Как видите, чуть ли не во всех...
Эти бунты в полках, а особенно настроение населения г. Архангельска и деревень, убедили меня, что большинство сочувствует большевикам…»
АРР, Т 9, с. 15.
Глава военной юстиции Северной области С. Добровольский вспоминал:
«Согласно приказа Командующего войсками Северной Области, ген. Марушевского, был разрешен свободный выезд в совдепию всем желавшим туда ехать и, вот, на наших глазах отошел поезд, перегруженный красными, которых дружески, с явным сочувствием провожало почти все остальное население Мурманска. На меня это произвело тогда крайне неприятное впечатление… Я помню, тогда мы поделились с полковником Б. опасениями, что станет с русской властью в случае ухода союзников».
АРР. Т.3. С. 15.
Небезызвестный среди мемуаристов мичман А. Гефтер оставил многочисленные воспоминания, поскольку представлял собой что-то вроде вездесущего промежуточного звена между британской разведкой и белым командованием.
«Оккупационные иностранцы (в Мурманске) не смешивались с русскими, в особенности замкнуто держались англичане, менее других – итальянцы. Но это совсем не потому, что эти господа были недовольны пассивностью населения, а просто потому, что с ним вовсе не считались, как не считаются с дикарями вновь открытых земель. Англичан больше всего интересовал лес и меха. И то, и другое в огромных количествах вывозилось из края. Затем их интересовал порт. Но тут они столкнулись с французами и американцами, которым тоже нравился Мурманский порт. Все они делали «заявки» на участки земли поближе к порту… Так во время оно охотились за участками в Калифорнии, но здесь дело было не так рискованно и значительно проще».
«Англичанам больше всего нравились бревенчатые русские постройки… Англичане, если помещение им подходило, водружали на крыше свой флаг, а русские могли идти, куда хотели…»
«С каждым днем моего пребывания на Мурмане приходилось все более убеждаться в правильности моего предположения о цели прибытия англичан. Они прибыли не для помощи русским, а для овладения богатым районом…»
Но при этом у мичмана и мысли не возникло прекратить (или хотя бы как-то скорректировать) свою «святую борьбу с большевизмом» на цырлах у союзников.
Гефтеру кто-то объяснил «хитрый план»: англичане прибыли на Север, дабы под покровом их мощи могла появиться сильная русская антибольшевистская армия.
«Но при таком плане нельзя было предполагать, что он увенчается успехом, так как из одних офицеров, которым удалось пробраться на Север в количестве 2-х – 3-х сотен, нельзя было набрать войска. Следовательно необходимо было объявить мобилизацию местного населения, то есть того самого населения, которое несколько месяцев назад было большевиками… Затем дело должно было бы закончиться трагедией».
Для кого трагедией, а для кого освобождением Русского Севера от оккупантов и их марионеток.
Так, кстати, и произошло. В определенный момент белые полки, состоявшие их мобилизованного населения, на поверку оказались большевистскими и сами демонтировали искусственно созданный анклав.
* * * * *
В отличие от Севера на Юг страны удалось пробраться не сотням, а тысячам офицеров.
Февраль 1918 года, «Ледяной поход» - 3,5 тыс. При этом солдат практически не было.
Июнь 1918 года, по свидетельству генерала Казановича, численность Добровольческой армии – 7,5 тыс. И опять без солдат.
Начало 1919 года – 10-15 тыс. И тоже практически одни офицеры.
Если бы не казачьи массы (примерно 60 тыс. донцов и 30 тыс. кубанцев) деникинская «армия» не вышла бы за рамки дивизии.
Почему не занимались широкой мобилизацией населения?
Ответ дает генерал П. Краснов.
«Академически генерал Лукомский и генерал Деникин, конечно, были правы. Донские казаки должны были умирать за свободу Родины. Но мог ли этого требовать Атаман, когда рядом Воронежские, Харьковские, Саратовские и т. д. крестьяне не только не воевали с большевиками, не освобождали этой Родины от них, но шли против казаков…. Почему же Деникин и Лукомский не мобилизовали население Ставропольской губернии и Кубанского войска и не создали свою Русскую Армию, которая пошла бы вместе с казаками? Почему же они держались принципа добровольчества? Да потому, что, когда мобилизовали, то мобилизованные передавались красным и уводили с собой офицеров».
АРР. Т. 5, Стр.241.
Обычная история.
«Деникин опирался на… офицерские добровольческие полки. Солдатам он не верил, и солдаты не верили ему…»
АРР. Т.7, С. 278.
«Генерал Деникин борьбе с большевиками придавал классовый, а не народный характер… Боролись добровольцы и офицеры, то есть – господа, буржуи, против крестьян и рабочих, пролетариата (выделено Красновым – otshelnik_1), и, конечно, за крестьянами стоял народ, стояла сила, за офицерами только доблесть. И сила должна была сломить доблесть.»
АРР. Т.7, С. 279.
По признанию того же Краснова, Красная армия была армией народной - в отличие от «не народной, интеллигентской армии» Деникина.
К концу 1918 года на Донском фронте
«усилиями военных «спецов» различных чинов и различного положения появилась только что созданная Народная Красная Рабоче-Крестьянская Армия, построенная на принципах военной науки». .
АРР. Т. 5, Стр. 246.
Прописные буквы в цитате - это акцент, сделанный самим генералом.
* * * * *
Но может быть, у Колчака было по-другому?
Как именно было можно прочесть в воспоминаниях командующего американским экспедиционным корпусом в Сибири генерала У. Грейвса.
«Методы, используемые колчаковцами для мобилизации сибиряков, вызывали ярость, которую трудно успокоить… В результате после выдачи оружия и обмундирования они дезертировали к большевикам полками, батальонами и поодиночке».
«Военную форму мобилизованным русским большей частью предоставляли британцы. Генерал Нокс (Knox) заявил, что Британия поставила силам Колчака сто тысяч комплектов формы. Отчасти это подтверждается количеством солдат Красной Армии, носящих британскую форму. Тот факт, что красные носят британскую форму, вызвал у генерала Нокса такое отвращение, что, как сообщают, позднее он сказал, что Британия ничего не должна поставлять Колчаку, ибо всё поставляемое оказывается у большевиков. Вообще говоря, солдаты Красной Армии в британской форме были теми же самыми солдатами, которым эту форму выдали, пока они были в колчаковской армии».
Кстати, в Северной Области англичане во многом содержали русскую белую армию за свой счет (могли себе позволить, ведь все это они с лихвой возмещали за счет грабежа богатого края). Британские офицеры и русские офицеры, британские солдаты и русские солдаты, получали одинаковое обмундирование и довольствие. По крайней мере, вполне сопоставимое. А это по меркам Красной армии было просто верхом сытости и материальной обеспеченности. Но, как признавал генерал Айронсайд, в русской Северной армии, практически не нашлось ни одного полка, в котором не было бы большевистского бунта с попыткой уйти за линию фронта к красным.
* * * * *
Мемуары.
В них есть две составляющие, как правило, перемешанные, но при этом никогда не сливающиеся воедино.
Это, во-первых, идеологические концепции и политические декларации.
А, во-вторых, это реальная история, пусть и пропущенная сквозь призму субъективного, обостренно ангажированного видения.
«Вся Россия томится под пятой большевизма!»
«Отечество взывает о спасении!»
«Отовсюду до нас доносятся стоны!»
«Русский народ изнемогает в цепях коммунистического рабства».
Это неизбывная классика жанра. Это, прежде всего, действует на коллективную «Симоньян» обоего пола. Типа «белые витязи против красных упырей».
«Ой, Вань, гляди, какие карлики.
В джерси одеты, не в шевьет…»
Подобную хрень нужно аккуратно, но решительно фильтровать.
Важно выделить «неубиенные» реперные «смысловые точки» и очевидные исторические факты. Ценность их в том и состоит, что это свидетельства «с той стороны».
Те факты, которые со слов белых мемуаристов приведены выше, имеют совершенно однозначное толкование. Они существуют помимо антисоветских идеологических проклятий и завываний и никоим образом не могут быть ими не то что нивелированы, но даже поколеблены.
Мичман Гефтер, как офицер почти двойного англо-русского подчинения (по существу, как и главный его патрон, верховный правитель – Колчак) может сколько угодно прямо или косвенно позиционировать себя в качестве русского патриота, но при этом он все равно вынужден признавать очевидное.
«Не учитывали совершенно связанности и чисто инстинктивной спаянности народной массы, повинующейся простому физическому закону сцепления однородных частиц, которой противопоставлены чуждые барские элементы, этому закону сцепления народных частиц не повинующиеся и настоящим чувством патриотизма не обладающие, - патриотизма, то есть единственного начала общности, которое могло бы быть противопоставлено связанности народных масс, шедших под большевистским флагом.»
«Белые герои» – это даже не класс, это «барские элементы», «настоящим чувством патриотизма не обладающие», ибо были абсолютно чужды «инстинктивной спаянности народной массы», т. е. тому, что и именуется национальным самосознанием.
Мичман описывает Гельсингфорс, переполненный русскими эмигрантами, в том числе и призывного возраста. Почти все лучшие гостиницы заняты русскими.
«В общей массе не наблюдалось стремления сомкнуться и идти на борьбу… И это происходило здесь под боком финского народа, выделившего из себя единственный в мире Schutz Car, то есть «белую гвардию». Часто приходилось слышать, как родители доказывали, что их сын не военный, следовательно, он не должен идти воевать с большевиками. Простой, чисто животный инстинкт защиты своего логовища и семьи не был свойственен этим людям, а в то же время они могли видеть развод караула у дворца на Эспланадной, который производился часто 45-55-летними представителями свободных профессий, докторами, юристами, инженерами, не военными фигурками, подчас с солидным брюшком. Но это были финны».
«Класс, неспособный к сопротивлению… Среди нас есть столько сильных и смелых людей, но нет веры друг в друга…»
А откуда возьмется вера друг в друга у «класса», вернее, у «барских элементов», пропитанных крайним индивидуализмом и эгоизмом, и воспринимающих при этом «инстинктивную спаянность народной массы» в качестве отрицательного феномена – «большевизма»?
Б. Соколов:
«Одним из факторов в жизни антибольшевистского движения была ставка этого последнего на союзников.
Еще в сентябре 1917 года, на фронте, я слышал разговоры:
«Вот бы дивизию французских солдат».
В дни борьбы за Учредительное собрание об этом опять говорили.
Мне пришлось на Украине пережить приход германцев; - быть позже на Волге, в Самаре и Уфе, видеть настроение в Сибири в дни Директории и Колчака, быть на Северном фронте, …и всегда и всюду тот же вопрос стоял для меня, - это вера широких слоев русской интеллигенции… в союзников.
Так было и на Самарском фронте, когда говорилось и утверждалось, начиная с верхов и кончая солдатской массой, что «чехи не выдадут, чехи справятся…»
И казалось чудовищным и странным это перенесение центра борьбы с себя на «союзника-чеха».
С этим же явлением мне пришлось столкнуться и в Сибири, когда делегации одна за другой посылались в Европу просить помощи.
Подобно гипнозу царила мысль, что без союзников не справиться, не победить.
… И чем глубже пытаешься анализировать ее, все больше и больше убеждаешься в том, что коренится она в свойствах и характере нашего интеллигента-обывателя, что порождена она фатализмом и пассивностью, свойственной его натуре…»
АРР. Т 9, с. 8-9.
«Знали все, что союзники поставлены в необходимость уйти с Севера…
И, однако, - когда факт стал очевидным, и Северная Область встала перед необходимостью быть активной и самостоятельной в борьбе за свою независимость, раздался неистовый вопль, обращенный к союзникам, вопль о том, чтобы они не уходили. Телеграммы, послания, петиции, делегации…»
АРР. Т 9, с. 9.
«Помню, в эти дни был митинг в городском саду. Выступали различные официальные и неофициальные лица: «Теперь, наконец, уходят англичане, и наше национальное самосознание может быть довольно.
Граждане, записывайтесь в добровольцы!»
Однако этот призыв остался гласом вопиющего в пустыне. Никто не записывался. Никто не шел добровольно. Наоборот, тот, кто не был связан с Севером, записывался к англичанам на эвакуацию – несмотря на строжайшее запрещение покидать Северную Область».
АРР. Т.9, с. 30.
* * * * *
Генерал П. Краснов не любил деникинских добровольцев за ярую прозападно-либеральную ориентацию, и полагал (на уровне декларации, конечно), что необходима
«…ориентация Русская - так понятная простому народу и так непонятная Русской интеллигенции, которая привыкла всегда кланяться какому-нибудь иностранному кумиру и никак не могла понять, что единственный кумир, которому стоит кланяться – это Родина.
Добровольческая армия, как армия не народная, а интеллигентская, офицерская, не избежала этого и рядом со знаменем «единой и неделимой» воздвигла алтарь непоколебимой верности союзникам, во что бы то ни стало. Эта верность союзникам погубила императора Николая II, она же погубила и Деникина с его Добровольческой армией».
АРР. Т.5, с. 221.
Но при этом сам Краснов ориентировался отнюдь не на «простой народ». Правда, и на Англию с Францией он не ориентировался тоже. «Англичанку» он просто ненавидел.
И поэтому он ориентировался на Германию.
Причем ориентировался неизменно, с 1918 года и по 1945-й.
Влажные мрии генерала Краснова касательно конца 1918 года заключались в следующем.
Кайзеровская Германия разрывает дипломатические отношения с Москвой и начинает войну против большевиков.
«Тогда немецкие полки освободителями вошли бы в Москву. Тогдашний немецкий император явился бы в роли Александра Благословенного в Москве, вся измученная интеллигенция обратила бы свои сердца к своему недавнему противнику. Весь Русский народ, с которого были бы сняты цепи коммунистического рабства, обратился бы к Германии и в будущем явился бы тесный союз между Россией и Германией. Это была бы такая громадная политическая победа Германии над Англией, перед которой ничтожным оказался бы прорыв линии Гинденбурга на Западном фронте и взятие Эльзаса».
АРР. Т.5, с. 265.
Жажда халявы посредством тесного единения с Западом - это просто удивительная, постоянно воспроизводящаяся форма русского гниения. И важную роль здесь играет специфическая разновидность «мечтателей» о «континентальном союзе» России и Германии против «морской империи» англосаксов.
Вспомните кредо И.Шмелева, друга и соратника И. Ильина. Оба в свою очередь являются «соратниками» нашего «Бесогона», а последний уже в свою очередь - часть нынешнего официоза.
«Я так озарен событием 22.VI (22 июня 1941 год), великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа».
«Если бы был братский союз двух великих народов..! - о, что было бы!!"
И всем генерациям этих «мечтателей» о «братском союзе двух великих народов» неизбывно приходилось иметь дело с Германией в роли главного врага России, ставящего своей целью ее уничтожение.
И каждый раз новая генерация таких «умников-мечтателей» несет в себе святое убеждение, что произошедшее всего лишь очередное историческое недоразумение (результат козней англосаксов), и что при следующей попытке им обязательно повезет.
Ну, уж на этот-то раз германцы просто не смогут увернуться от такой грандиозной выгоды – газ по трубам, причем дешевый, калорийный и свежий, только что из скважины. Континентальная Европа будет просто последней дурой, если откажется от подобного счастья!
Ну, вот не было и нет у руководства «новой России» цивилизационного видения мира. Его нет от слова «совсем». Есть только его имитации.
Приведем цитату из политического меморандума кайзеровской Германии, в котором формулируются ее цели и задачи в Первой мировой войне.
«Нынешняя война является решающей схваткой во имя становления культуры Европы». Бездонная пропасть между азиатско-монгольской и европейской культурами разделяет германца и московита — здесь невозможно никакое взаимопонимание! …Как только мы добьемся для себя свободы мореплавания, мы сможем упорядочить наши отношения с Англией; с Россией же примирения не будет никогда. В этом вся разница».
Что непонятного?
С Англией у них могут быть сложные «отношения», которые им приходится «упорядочивать» в том числе и на поле боя.
Но Германия и Англия – это одно, а «московиты» - это абсолютно другое.
Или позднее, 1941 год - план «Ост»:
«Производство продовольствия в России на длительное время включить в европейскую систему.»
«Западная и Северная Европа голодает… Германия и Англия нуждаются во ввозе продуктов питания».
III рейх уже пребывает в состоянии войны с Англией, но при этом трогательно заботится о ее пропитании (за счет России). Гитлеровское руководство рассматривало Англию как братскую страну и преследовало цель принудить ее к союзу, причем на весьма почетных для Англии условиях с полным сохранением ее имперского статуса. Гитлер неоднократно говорил, что поражение Англии было бы трагедией и для Германии и для Европы в целом.
И мысли Черчилля были, как бы симметричны, он писал еще в период Сталинградской битвы:
«Все мои помыслы обращены, прежде всего, к Европе. Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас (в 1942 году!), я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом…»
Ну, к кому вы лезете в «корешА» и «дружбанЫ», причем в качестве залога дружеской лояльности разбазаривая то, что Россия собирала и отстаивала веками. При этом разлагаете ее морально и культурно, разоружаете экономически и технологически, а геополитически опрокидывая ее в XVI век, в эпоху сражений «на Изюмском шляхе»!
Удивление наших верхов нынешним «глупым», «нерациональным» поведением европейских и, прежде всего, немецких элит есть всего лишь следствие нашего вопиющего антисоветско-вхожденческого исторического невежества.
* * * * *
Если СССР – это продолжение исторической России, то в реальном масштабе времени все то, что погубило предыдущий ее вариант – РИ, неизбежно должно было самым решительным образом, то есть с оружием в руках, воспротивиться продолжению России в новом качестве, свободном от их болезнетворного присутствия.
При этом опираться сыны погибели непременно должны были на западных партнеров, ибо формула их гниения всегда предполагает то или иное «благотворное сближение» с Западом.
А гнилое и упадочное всегда тянется к гнилому и упадочному. Даже сквозь столетие.
Вот простая, как апельсин, логика русской Истории.
* * * * *
Буквально позавчера «у Соловьева» генерал-полковник А. Картаполов напомнил об эпопее интервенции и об оккупации Мурманска и Архангельска.
«Они дошли почти до нынешнего космодрома «Плесецк».
И там их встретил неправомерно забытый 15-й Юрьевский полк 6-й Красной армии. Из 1300 человек остался только 31 боец. Но они не отступили».
По настоянию Черчилля экспедиционному корпусу были переданы 50 тыс. снарядов с химическим оружием, которое применялось против варваров-большевиков весьма интенсивно.
Юрьевский полк состоял из путиловских рабочих и жителей города Юрьева (поэтому там было много эстонских коммунистов).
Полтора месяца полк, отступая, сдерживал превосходящие силы интервентов. Дрались за каждую пядь земли. В ходе пятисуточных (!) штыковых боев (боеприпасы кончились) в строю действительно остался всего 31 красноармеец-юрьевец из 1300 человек первоначального состава!
Но нашествие иноземных войск было остановлено на рубеже 445–446-й версты железной дороги Архангельск–Вологда.
Англосаксам стало понятно, как сильно Россия «стонет под пятой большевизма».
Все присутствующие у Соловьева не проронили ни слова, и слушали все это с каменными лицами, будто люди, попавшие в неловкую ситуацию.
Ну, не «симпатичны» большевики нашему официозу. Ему «симпатичны» совсем другие (хотя сие не всегда открыто проговаривается).
И это понятно.
Ведь единственным официальным идеологическим обоснованием всего того, что со страной сотворили за последние 35 лет, было и остается наше освобождение «из-под пяты безбожного большевизма».
Ну, типа «вызволение из советских застенков».
В смысле разрушение «оков коммунистического рабства».
Если коротко, то как-то так.
Ибо под эпохальными событиями, 12 июня 1990 года, 22 августа 1991 года и 8 декабря 1991 года никаких иных, хоть сколько-нибудь по-настоящему моральных оснований нет.
Нет…
Как ни крути…
|
|
</> |

 Польза и применение масел ши и касторового
Польза и применение масел ши и касторового  Поход на скалодром
Поход на скалодром  Анонс грабительского роста тарифов
Анонс грабительского роста тарифов  Свет с Востока и темный Запад
Свет с Востока и темный Запад  Я не хлеб, я гриб
Я не хлеб, я гриб  лытдыбр
лытдыбр 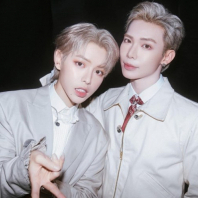 Вопрос интервидению и его авторам
Вопрос интервидению и его авторам  Продолжает цвести мирабилис
Продолжает цвести мирабилис  Не мир и радость наполняют ухаживающих за больными стариками: гнев,
Не мир и радость наполняют ухаживающих за больными стариками: гнев, 


