
Почему «не взлетел» прокат автомашин в СССР?
 maysuryan — 15.06.2025
maysuryan — 15.06.2025

В июле 1956 года в СССР появилась новая услуга — прокат автомашин. Впервые эта идея прозвучала в Советском Союзе ещё в 1935 году, но тогда не была реализована. А в 1956 её сторонником, как говорят, был сам Никита Хрущёв, который считал, что она представляет шаг к коммунизму — автомобили станут доступнее для всех, и в то же время останутся общественными!
Первый прокатный пункт открылся в Москве рядом с Киевским вокзалом. В нём было 27 автомобилей, среди которых были «Москвичи» и «Победы». Чуть позже появились и более престижные модели, такие, как «Волга» ГАЗ-21. Машину можно было взять напрокат на срок от трёх часов до одного месяца. Цены за аренду начинались от 90 копеек. К 1962 году пункты проката работали уже в 40 городах СССР, а срок аренды составлял от трёх часов до одного месяца.
Увы, новая услуга «не взлетела». И вскоре после отставки Никиты Сергеевича она была стремительно свёрнута. Почему же это произошло, ведь вроде бы новый сервис развивался, прокатные пункты открылись в четырёх десятках советских городов?
Разобраться в причинах этого нам поможет, как ни странно, художественная литература эпохи и даже... фантастика. А именно — повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1964—1965). Главный персонаж этого произведения, молодой программист Александр Привалов, путешествует по стране на автомашине. И эта машина — прокатная.
«Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взрёвывал, камни били в днище.
— Бедная машина, — сказал горбоносый.
— Что делать… — сказал я.
— Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине.
— Я бы поехал, — сказал я.
Россыпь кончилась.
— А, так это не ваша машина, — догадался горбоносый.
— Ну, откуда у меня машина! Это прокат.
— Понятно, — сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно.
Я почувствовал себя задетым.
— А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
— Да, конечно, — вежливо согласился горбоносый.
— Глупо, по-моему, делать из машины идола, — заявил я.
— Глупо, — сказал бородатый. — Но не все так думают».
В общем, в этом диалоге всё сказано... Но тут нам придётся немного отвлечься от темы автопроката и разъяснить несколько исторических и литературных фактов. Дело в том, что персонажи произведения, за вычетом некоторых отрицательных типов (например, профессора Выбегалло) — бессребреники и трудоголики. Волшебный институт, в котором они работают, так устроен, что у любого сотрудника, который увлекается вещизмом, особенно в ущерб работе в институте, начинает расти шерсть на ушах. Конечно, её можно выводить, но всё равно это — ужасный позор. В мире «Понедельника», «стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь всё зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек... Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на всё рукой («Живём один раз», «Надо брать от жизни всё», «Ничто человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остаётся одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он ещё может остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жёсткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах».
Авторы повести в момент её написания верили, что именно интеллигенты-бессребреники — это будущее советского общества. В действительности они были, увы, как раз уходящей натурой. Не прошло и десяти лет, как те же авторы, братья Стругацкие, воспели совершенно новый тип интеллигента — не бессребреника, а как раз вещиста, в лице героя повести «За миллиард лет до конца света» (1976) Филиппа Вечеровского.
Вот, например, как обставлена скромная кухня этого эталонного персонажа: «В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где... всё было самого высшего качества — на мировом уровне или несколько выше...» Стоп-стоп-стоп, «было так прохладно», говорите? Но ведь повесть с того и начинается, что «белый июльский зной, небывалый последние два столетия, затопил город. Ходили марева над раскалёнными крышами, все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавились старухи» и т.д. И позднее тема летней жары рефреном повторяется на протяжении всей повести, и даже усиливается — «такой жары, говорят, двести пятьдесят лет не было». Так откуда же подобная роскошь — прохлада — в разгар небывалого зноя? Нет ли тут какого-то чуда? Может быть, это волшебная аура гения Вечеровского, распространяющего вокруг себя прохладу? Нет, ларчик открывается гораздо проще: «Здесь прохладно, тихо. В каждой комнате кондиционер». «Полно, князь, душа моя, это чудо знаю я». Даже сейчас, спустя полвека, кондиционеры, тем паче в каждой комнате, доступны далеко не всем. А в середине 70-х годов это была совсем уж экзотическая роскошь. Погодите, погодите, но ведь если так, то он должен был зарасти жёсткой ушной шерстью до самого потолка! Но — упс — этого не происходит. Почему? Потому что ценности и установки мейнстримной интеллигенции с 1964 до 1976 года незаметно поменялись
Но вернёмся к нашему автопрокату. Привалов — бессребреник, и, как говорят французы, его недостатки являются продолжением достоинств. Машину он не бережёт, и даже подводит под это «теоретическую» базу. Мол, «глупо делать из машины идола». Правда, он добавляет к этому, что не только прокатную, но и личную машину он гробил с точно такой же невозмутимостью. Верим! Но это показывает, что от социальной группы «бессеребреники» прокатные автомашины не ждало ничего хорошего. Называя вещи своими именами, они преспокойно раздалбывали взятые в прокате автомобили в хлам.
Ну, хорошо, но не все же были бессеребрениками, даже в 1964 году! Возможно, от «вещистов» машины ждало лучшее, более бережное обращение? Да, вещисты охотно превращали автомобили в предмет почитания и культа. Пылинки с них сдували. Но только, простите... с частных автомобилей. Личных, собственных, кровных. Ну, а с прокатных... Не смешите. Прокатные авто были хорошими объектами, чтобы «раздеть» их догола, то есть снять с них все более-менее не убитые, рабочие детали и переставить на своё, родное и любимое, авто. Заменив тем, что на своём уже вышло из строя или близко к тому.
В общем, вы поняли, почему прокатный автобизнес в СССР 1960-х был обречён накрыться медным тазом. Так и произошло.
Правда, в 1970-е годы этот сервис возродился, но уже только для иностранцев. Между прочим, упоминание о нём есть в кинофильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974), где главная героиня как раз разъезжает по Ленинграду на прокатном ВАЗ-2103. Но это — как говорится, уже совсем другая история...

Реклама автопроката в СССР


 Как оформить залог недвижимости без нотариуса
Как оформить залог недвижимости без нотариуса  Дачнопомидорное, кабачковосиненькое
Дачнопомидорное, кабачковосиненькое  Флорентийский дворец из красного кирпича
Флорентийский дворец из красного кирпича  Чинить, паять, на всех влиять...
Чинить, паять, на всех влиять...  Просил у Светы 15 тыс.долларов на студию. Не отдала...
Просил у Светы 15 тыс.долларов на студию. Не отдала...  К визиту Степана Витькова в Москву
К визиту Степана Витькова в Москву  Услуги электрика Фили-Давыдково
Услуги электрика Фили-Давыдково 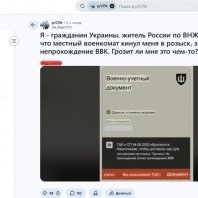 Хохлы начали откровенно стебаться над своими нациками
Хохлы начали откровенно стебаться над своими нациками 



