Об экономике, социальной политике и задачах Стратегии 2020
 Степан Сулакшин — 03.08.2011
Степан Сулакшин — 03.08.2011
Удивляет в стенограмме обсуждения Стратегии 2020 беллетристика
по поводу перехода «от экономики спроса к экономике предложения», к
экономике стимулирования предпринимательской активности не за счет
государственного или частного спроса, а за счет предложения.
Экономисту понять, о чем идет речь, абсолютно невозможно. Дело в
том, что спрос и предложение в равновесной экономике
сбалансированы. В этих условиях новое предложение, связанное с
инновациями, порождает новые ниши спроса. Так работает рынок. Что
такое экономика спроса, в которой нет предложения, никто не знает.
Что такое экономика предложения, в которой нет платежеспособного
спроса, никто также не знает.
На самом деле речь идет о том, что коэффициент валовых накоплений в
стране должен увеличиться в два с половиной, три раза. Объемы
инвестиций должны возрасти. Совершенно очевидно, что никаких
внешних массированных инвестиций в страну не будет, не только по
экономическим, но и по военно-политическим причинам. Совершенно
ясно, что демонетизация, подавившая инвестиционный процесс в
стране, уход государства от инвестиционных задач – это причина
стагнации развития и деградации экономики и социальной сферы
страны. Но в этом отношении, как заявил Ярослав Иванович Кузьминов,
«задача наша – не писать стратегию заново».
В чем же Ярослав Иванович видит задачи коррекции «Стратегии-2020»?
Оценим несколько отчетливых пунктов, и они тоже, как минимум,
являются поводом для дискуссии. Кузьминов утверждает, что
«скатывание в инфляционное финансирование бюджетных обязательств,
чем бы оно ни было вызвано, является недопустимой политикой». О чем
вообще идет речь? С чего это финансирование бюджетных обязательств
становится инфляционным? Финансирование бюджетных обязательств
всегда, во все века и в каждом государстве, является естественной и
неотъемлемой функцией функционирования государства. (При условии,
конечно, что не ставится задача ликвидации этого самого
государства, которая в общем то просматривается). В частности, доля
в России государственных расходов в ВВП сегодня меньше 40%, почти
как в Америке. Кузьминову почему-то кажется, что если мы дадим 5-6%
бюджета на науку, в отличие от сегодняшних полутора процентов, 8%
на здравоохранение, как в Европе, в отличие от сегодняшних 2%, то
расход бюджета составит не 38%, как сегодня, а 80%. Это будет
означать «восстановление коммунизма, причем коммунизма военного,
потому что сведения всего в центр и раздачи не было с 1919 года».
Видимо, Ярославу Ивановичу неизвестно, что на уровне 60, 70, 80%
государственных расходов в ВВП работают скандинавские страны,
добиваясь при этом весьма значительных результатов. Точно такие же
показатели у Китая, у малюсенькой Белоруссии, которую атакуют
сегодня с двух сторон финансовые спекулянты и государственные
инфраструктуры.
Кузьминов исходит из того, что в России «политика в огромной
степени – социальная политика». Прямо перед этим утверждением он
называл цифры, которые показывают, что гуманитарные расходы на
человека – на образование, науку, культуру, здравоохранение – в
разы меньше, чем в сопоставимых европейских странах. Менять это
соотношение он не собирается. Но как же такую политику можно
назвать социальной? От такой социальной политики и вымирает
население России. Он считает, что российское государство ведет
политику поддержки бедных, сокращения объемов масштабов бедности,
которая выбивается за стандартные рамки подобной политики. Но как
тогда быть с тем, что бедных в стране 15%, и цифра не падает, а
растет? За первый квартал 2011 года количество бедных выросло на
два с половиной миллиона человек. Называть такую политику
социальной нет никакой возможности.
Достаточно посмотреть на структуру российского бюджета, сравнить ее
в части гуманитарных расходов с европейским и американским
бюджетом, и увидеть, что в России политика государства –
асоциальная. Есть удивительная статья расходов государственного
бюджета, называемая «социальной политикой». Структурно она является
самой большой в расходах. Тем не менее, она представляет собой
расходы (почему-то вне Пенсионного фонда) на пенсии военнослужащим
и лицам, приравненным к ним, и на содержание богаделен и хосписов.
Можно понять, почему людям, умеющим держать оружие в руках,
государство специфическим образом обеспечивает пенсии. Можно понять
в этой связи, почему относительная численность полицейского
контингента в России больше, чем в других странах, и
пропорционально больше, чем в вооруженных силах России. Здесь
логика налицо: если политика асоциальна, если она ведет к
неизбежному социально-политическому кризису, к протестным
настроениям, а потом и действиям, то аппарат подавления этих
действий, конечно, должен быть сформирован. А вот утверждение, что
такого масштаба бесплатного образования и здравоохранения нет,
например, в Китае, - это откровенная выдумка.
Поразительно откровение о том, что в России не только слишком
высокая зарплата, но и существует «огромный вызов, навес высшего
образования». Оказывается, у нас слишком много людей с высшим
образованием, и слишком многие претендуют на получение высшего
образования. «Это колоссальное отбегание людей от работы руками, от
монотонного труда, от труда, который не имеет элементов
коммуникации или креативности». Других видов труда в России даже не
предполагается. Не предполагается, что экономика должна стать
экономикой знаний, инновационно чувствительной, наукоемкой, что все
больше будут востребованы специалисты с высшей и высочайшей
квалификацией, если уж верить в разговоры уважаемых руководителей.
Нет, оказывается - «мы обречены на активную миграционную политику,
активную политику поощрения иммиграции». Оказывается, «без
мигрантов экономика России существовать просто не может, и эта
тенденция будет развиваться с каждым годом». Соотнося этот тезис с
тем, что нам нужны не высокообразованные люди с высшим
образованием, а низкоквалифицированная рабочая сила, надо понимать,
какую стратегию эти руководители готовят для страны. Стратегия
действительно просматривается. Она названа напрямую: это «сжимание
государства».
Утверждается, что необходима ликвидация основной части
контрольно-надзорной деятельности государства и замещение ее
обязательным страхованием. (Ну примерно так как это произошло с
теплохолдом Булгария). Двадцать лет практически непрерывного
кризиса никак не подсказывают Мау и Кузьминову того, что сокращение
объемов лицензирования и соответствующего контрольного института в
стране привело к фальсификации продовольствия и лекарств, а,
соответственно к увеличению смертности и сокращению ожидаемой
продолжительности жизни. Это просто не принимается во внимание, и
соответственно утверждается, что по этому пути надо идти
дальше.
Надо сокращать, следуя предлагаемой стратегии, количество
чиновников в стране. Откуда взят этот тезис – совершенно непонятно.
Если подсчитать количество государственных служащих в соотношении к
населению России, то оно в разы меньше, чем в сопоставимых по ВВП и
развитости странах Европы и Соединенных Штатов. Утверждается, что
«нужно существенное сокращение огромной армии людей в погонах,
которых на сегодняшний день у нас, ну, больше трех миллионов
человек, в той или иной форме. Это примерно в три раза больше, чем
в любой другой стране».
Если же всерьез говорить о российской армии, то ее численность
относительно населения страны меньше, чем в Бельгии, Дании, Индии,
даже Казахстане и Молдове. Если же говорить о полицейском эшелоне,
то необходимо видеть разницу между армией и полицейским
контингентом. Об этой разнице не говорится. Говорится лишь о том,
что надо сокращать число людей в погонах.
Читать подобные речи и подобные стратегии очень тяжело, потому что
в них заложено колоссальное внутреннее противоречие, в них
отсутствует логика, связывающая публичные цели развития – ту же
борьбу с бедностью, тот же экономический рост, невозможный без
инвестирования – с предлагаемыми мерами. Эта связь нарушена или
отсутствует. Профессиональные, научные или практические термины
заменяются метафорами, типа «инвестиционного климата»,
«госкапитализма». Забавны признания самих Мау и Кузьминова
относительно этих терминов. Кузьминов: «Термин «госкапитализм» – я
согласен, это метафора, скорее». Мау: «Вообще, конечно, скажу, что
госкапитализм – это скорее такое политическое определение. Поэтому
нужно обсуждать, что имеется в виду». Из этих откровений понятно,
что обсуждается нечто, относительно чего неясно, что имеется в
виду. Это странно, если не сказать больше, для разработки стратегии
столь высокого уровня.
Все это было бы печально и в рамках научно-профессиональной
дискуссии. Учитывая же, что этот продукт готовится для руководства
страны, все вышеперечисленные казусы – это просто катастрофа. Если
отбросить в сторону всю шелуху, то стратегия, разрабатываемая в
группе Мау – Кузьминова, будучи реализованной, приведёт к следующим
последствиям. Будет сокращаться роль государства в стране, ослабляя
ее государственность, и готовя Россию к судьбе Советского Союза.
Будут сокращаться государственные расходы, снизится оборонный
потенциал страны, будет нарастать сырьевая диспропорция, произойдёт
окончательная архаизация экономики. Открытость экономики будет
возрастать и дисбаланс между экспортом и импортом неизбежно
приведёт к выносу за рубеж и материальных, и финансовых, и
гуманитарных ресурсов. Будет сокращаться уровень инвестиционной
активности, а соответственно, и инновационная активность. Будет
коммерциализироваться гуманитарная сфера в здравоохранении, в
образовании, в науке. Страна будет все более приобретать
классический вид колонии.
Устойчивости развития национальной безопасности, уверенности в
будущем и демографического исправления ситуации при такой стратегии
быть не может. Тем не менее, за эти откровения нужно поблагодарить
В. А. Мау и Я. И. Кузьминова, потому как благодаря их честности мы
теперь знаем, какая судьба уготавливается нашей стране в
научно-экспертном либеральном лагере.
С.С.Сулакшин, д.полит.н, д.физ.-мат.н.

 Использование электронных микрометров в автоматическом цикле круглошлифовальных станков по металлу
Использование электронных микрометров в автоматическом цикле круглошлифовальных станков по металлу  КиноРулетка №36. Цвет настроения — жёлтый. Запись
КиноРулетка №36. Цвет настроения — жёлтый. Запись  результат — на лицо!
результат — на лицо!  Утренняя гимнастика или передача для одиноких мужчин
Утренняя гимнастика или передача для одиноких мужчин  А пока я жива...
А пока я жива...  Почему грот ракушек в Маргите по сей день считается величайшей загадкой в мире
Почему грот ракушек в Маргите по сей день считается величайшей загадкой в мире  альма малер и оскар кокошка(выставка в музее фолькванг,эссен)
альма малер и оскар кокошка(выставка в музее фолькванг,эссен)  Трусы, пардон, лицо "Тотальной войны"
Трусы, пардон, лицо "Тотальной войны" 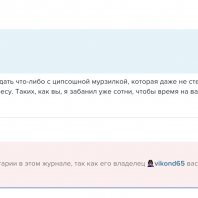 Почему так быстро рвуться г*****ы?
Почему так быстро рвуться г*****ы? 



