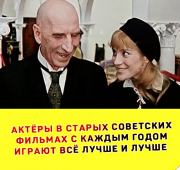На фиту пожалуйте!
 fem_books — 25.08.2018
По совету уважаемой сообщницы
fem_books — 25.08.2018
По совету уважаемой сообщницы  mansikka01
приобрела замечательную книгу -- "Одеяло из лоскутьев" Любови
Копыловой, переиздающуюся более полувека спустя. Есть ещё
"Избранное" сорок первого года, но его нигде найти нельзя. Да и
другие издания редкие. Я, конечно, раскопала. Теперь у меня две
книжки.
mansikka01
приобрела замечательную книгу -- "Одеяло из лоскутьев" Любови
Копыловой, переиздающуюся более полувека спустя. Есть ещё
"Избранное" сорок первого года, но его нигде найти нельзя. Да и
другие издания редкие. Я, конечно, раскопала. Теперь у меня две
книжки.

Серия, которую открывает "Одеяло из лоскутьев", называется "Фита". Не надо профессионально разбираться в русской классике, чтобы моментально припомнить из Лескова:
— А потом я на фиту попал, от того стало еще хуже.
— Как «на фиту»?
— ...Покровители... в адресный стол определили справщиком, а там у всякого справщика своя буква... Иные буквы есть очень хорошие, как, например, «буки», или «покой», или «како»: много фамилий на них начинается, и есть справщику доход. А меня поставили на «фиту». Самая ничтожная буква, очень на неё мало пишется, и то еще... кои ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят; кто хочет чуть благородиться, сейчас себя самовластно вместо «фиты» через «ферт» ставит. Ищешь-ищешь его под «фитою», а он — под «фертом» себя проименовал...
В ретро-феминистической серии Ѳ будут, обещают нам, собраны произведения тех писательниц, которые так и не смогли под фертом себя проименовать, остались, условно говоря, под фитой. Но это совсем не повод забывать о них! Вот и Любовь Фёдоровна Копылова (1885-1936), начинавшая в десятые годы как поэтесса-символистка, в году 1934 умудрилась написать почти автобиографический роман "из дореволюционной жизни", почти ничего не сказав о жизни постреволюционной. Нет, её Ксения Щербакова хочет перековаться, ходит на лекции по диамату, ведёт с бывшим наставником жёсткие идеологические диспуты -- без этого книга бы не вышла в свет. Мы все понимаем, какие это были времена. Но "Одеяло из лоскутьев" начали шить в те заповедные времена, когда такого развития событий не могли предугадать лучшие умы империи. Ох и помотала судьба героиню -- да и саму романистку. Хутор под названием Собачий среди свалок и болот, куда можно только дойти пешком, дорога непроезжая. Игры в помойке -- и тут же лирический, бунинский совершенно пустовойтовский сад, о котором самые милые сны детства. Мещанские вечеринки, фанты, гитары -- и поиски сладостной земли Ойле. Учительство в далеко не роскошном селе Роскошное. Как у Эльмиры Котляр:
И это местечко, где ютилась голь беспортошная,
Называлось Роскошное!
По протекции наставника, чем-то похожего на Бердяева -- труд в монастыре, редкие поездки в Москву, на собрания философского общества, подозрительно местами похожего на секту... Старый мир положено бичевать, и Копылова вспоминает о страшных вещах -- о повальном пьянстве, нищете, отвратительных браках по расчёту. Но и страшное, и привлекательное описано так полно, так ярко, так многосторонне, что новый быт безнадёжно проигрывает старому. Ксения вольна верить, что ключ от научной истины таится в брошюрках по диамату: "что умерло, никогда не воскреснет, и не надо слишком часто ходить на кладбище". Но Шатерников, каков он ни есть старый высокопарный дурак и сексист, находит для защиты минувшего поэтические слова. Да и сама товарищ Щербакова, заводская библиотекарша и рассказчица, хранит цветные лоскутки, целый ворох: от каждого платья за всю жизнь по лоскутку. Много это или мало?
-- Какое нищее богатство! И это -- моя жизнь...
Я посмотрела на дату смерти Л.Ф. Копыловой новыми глазами. Подумалось: даже если бы не случилось болезни, ей оставался бы год, максимум два.
Между тем, фанты продолжались. Кто-то кукарекал, хлопая себя ладонями по бедрам, как петух крыльями. Кто-то, обязанный сказать каждому дерзость, ругал всех по очереди. Расстриженный священник исповедовал женщин под шалью.
У девицы в дешёвой голубой кофточке потребовали, чтобы она показала содержимое своей сумочки. Ее явное смущение затронуло общее любопытство. Сначала она отказывалась довольно твердо, но настойчивость, с какой к ней приставали, все возрастала. Она отбивалась, крича и смеясь, в то время как губы её уже складывались в гримасу, которая предшествует слезам. Волосы ее растрепались. Лицо стало красным.
Кто-то предложил присутствующим отгадать, что такое в сумочке, защищаемой так упорно.
Одни кричали, что там румяна, другие — любовное письмо, третьи — что она набила сумочку конфетами, которые стащила с подноса.
Гликерия с Капитолиной оттащили в сторону хворост, который был навален до самых окон флигеля. Мария-плотник пришла с пилой и рубанком. Работая, она надевала бархатную скуфейку и, с разрешения игуменьи, шаровары. Она любила плотничать больше всего на свете и ушла в монастырь потому, что в миру над ней смеялись. Играя топором, приходила она то в одну келью, то в другую. «Не нужно ли тебе сделать полочку? — спрашивала она Анну. — У тебя вот альбомы с вензелями валяются на подоконниках......», «Дай, я сострою тебе шкафчик, — предлагала она Капитолине: — у тебя посуда всегда в мухах...», «Благословите, матушка, я поставлю новый сарайчик на скотном, — кланялась она игуменье, — в старом для трех коровок не хватает места».
Она вставила во флигеле новые рамы, перестелила полы, поправила выломанные перила на крылечке...
Пыль оседала на акациях и кустах сирени, растущих в палисаднике. Беленькие козочки бежали впереди стада. Они высовывали розовые язычки и блеяли жалобно и нежно.
— Это институтки, — говорил Аникий, и все смеялись.
За козами и овцами тяжело ступали коровы, коричневые, с белыми пятнами на широких боках. Они вытягивали вперед морды, выставляли рога и мычали протяжно и громко на все село.
— А это — гимназистки, — говорил Аникий, и все взвизгивали от удовольствия.
За коровами, подбрасывая свои круглые зады, выпачканные навозом, и подняв кверху закрученные винтом хвосты, торопились к корытам поросята.
— А вот это епархиалки, — говорил Аникий и заранее прятал уши от Соломки, которая окончила епархиальное училище. С криком негодования она набрасывалась на учителя, стараясь отнять его руки от пылающих ушных раковин, которые он прикрывал ладонями. Крулевецкая бросалась на помощь своему жениху. Резкие движения вызывали припадок кашля. Она захлебывалась, корчась и закрыв лицо платком, в то время как Соломка с Аникием продолжали возиться за ее спиной, украдкой целуясь.
|
|
</> |

 Apple Watch SE: оптимальный выбор умных часов для здоровья и повседневной жизни
Apple Watch SE: оптимальный выбор умных часов для здоровья и повседневной жизни  Надо брать!
Надо брать!  Поездка на Southampton Boat Show. Часть 1. Портсмут.
Поездка на Southampton Boat Show. Часть 1. Портсмут.  Из серии «Добыча золота» (Колыма). 1970-е. Шумков Василий
Из серии «Добыча золота» (Колыма). 1970-е. Шумков Василий  Что представляет собой ракетный комплекс "Сармат"
Что представляет собой ракетный комплекс "Сармат"  Привет, ноябрь!
Привет, ноябрь!  Слава Юго-Восточной Азии!
Слава Юго-Восточной Азии! 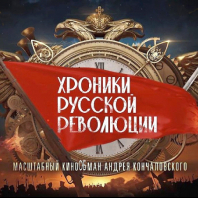 Сериал "Хроники русской революции". Россия, 2025 г.
Сериал "Хроники русской революции". Россия, 2025 г.  В Вильнюсе открылась выставка акварели Наполеона Орды.
В Вильнюсе открылась выставка акварели Наполеона Орды.