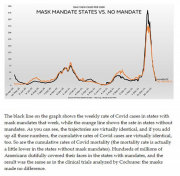мы с нейросетью вдвоём
 kommari — 08.07.2025
Нейросеть читает книги.
kommari — 08.07.2025
Нейросеть читает книги.
Title: "True Democracy’ as a Prelude to Communism. The Marx of Democracy"
Author: Alexandros Chrysis
Publisher: Palgrave Macmillan, an imprint of Springer Nature
Year of Publication: 2018
ISBN: 978-3-319-57540-7 (hardcover), 978-3-319-57541-4 (eBook)
Книга Александроса Хрисиса «„Истинная демократия“ как прелюдия к коммунизму: Маркс о демократии» (2018) представляет собой подробное исследование эволюции политических идей Карла Маркса в его докоммунистический период, с 1835 по 1843 год. Автор ставит перед собой задачу ответить на два ключевых вопроса: каково содержание, которое Маркс вкладывал в термин «демократия» до того, как он принял коммунистические идеи, и какова внутренняя связь между докоммунистической марксистской теорией демократии и стремлением к самоопределению, сформулированным в его ранних работах.
Автор утверждает, что эти вопросы имеют не только академический интерес. Демократия и освобождение — это центральные темы в истории идей, которые выражают экзистенциальную потребность человека в освобождении от любой формы гетерономии, то есть внешнего определения. В периоды кризиса, подобные нашему, теоретическое осмысление демократии неразрывно связано с социальной борьбой и стремлением людей к лучшему миру.
Хрисис подчеркивает, что невозможно понять суть марксистской теории демократии, не обращаясь к более широкому философскому вопросу человеческой автономии, уходящему корнями в древнегреческую культуру, которая оказала значительное влияние на молодого Маркса. Автор указывает, что уже в докторской диссертации Маркса, где символическая фигура Прометея восстает против богов, самоопределение человека утверждается как высшая ценность жизни. Хрисис также отмечает важность влияния идей европейского Просвещения и Французской революции на мысль Маркса, проводя различие между тем, как Маркс воспринимал эти идеи, будучи левым гегельянцем, и как он переосмыслил их, став коммунистом и теоретиком классовой борьбы.
В своей методологии Хрисис отвергает популярную теорию «эпистемологического разрыва» Луи Альтюссера, которая проводит резкую грань между «идеологическим» молодым Марксом и «научным» зрелым Марксом. Вместо этого автор предлагает диалектический подход, рассматривая развитие мысли Маркса как процесс, в котором присутствуют как элементы преемственности, так и разрывы. Переход Маркса от идеализма к материализму и от республиканизма к коммунизму — это сложный процесс, в котором предыдущие аналитические «моменты» диалектически «снимаются» (преодолеваются и одновременно сохраняются) в новой, более широкой теоретической рамке. Таким образом, докоммунистическая теория демократии не исчезает в зрелых работах Маркса, а диалектически включается в его теорию классовой борьбы.
Автор выделяет три взаимосвязанных цикла в докоммунистическом периоде Маркса (1835–1843):
Первый цикл (1835–1841): университетские годы, завершившиеся защитой докторской диссертации.
Второй цикл (1842–1843): работа в «Рейнской газете», где Маркс выступал как политический журналист.
Третий цикл (1843): критическое осмысление гегелевской философии права и государства, кристаллизовавшееся в рукописи «К критике гегелевской философии права», написанной в Кройцнахе.
Переходным моментом к коммунизму стали статьи, опубликованные в «Немецко-французском ежегоднике» в начале 1844 года, где Маркс впервые говорит о всеобщей человеческой эмансипации и определяет пролетариат как агента революции.
Хрисис полемизирует с различными школами интерпретации политической теории Маркса. Он критикует как структуралистский подход Альтюссера и Пуланцаса, так и итальянскую школу Делла Вольпе и Колетти, которая, по его мнению, преувеличивает влияние Руссо и недооценивает оригинальность Маркса. Автор также оспаривает точку зрения Максимилиана Рюбеля, который утверждал, что Маркс всегда оставался «буржуазным демократом на практике», а его коммунизм был лишь развитием его ранних демократических идей, заимствованных у Спинозы. Хрисис стремится показать, что у Маркса существует самобытная и оригинальная политическая теория, а его концепция «истинной демократии» является стратегическим проектом, нацеленным на замену политики как формы господства меньшинства политикой как общинным образом жизни, в обществе без классов и государства.
Философский «момент»: от метафизики права к критике политики
Формирование теории демократии у Маркса происходило в контексте политической, социальной и культурной напряженности, порожденной Французской революцией 1789 года и Июльским восстанием 1830 года. В своем письме отцу от 10 ноября 1837 года Маркс описывает свой теоретический переход от идеализма Канта и Фихте к философии Гегеля. Его перестает привлекать априорный, чисто философский поиск «истины»; вместо этого он стремится найти «Идею внутри самой реальности». Этот сдвиг имел решающее значение для его понимания государства и права. Маркс отвергает нормативные подходы, которые судят о реальности с точки зрения заранее сконструированного идеала. Для него само государство, право, природа должны изучаться в их развитии; их рациональность должна раскрываться как нечто, пронизанное внутренними противоречиями и находящее свое единство в самом себе.
Маркс отказывается от того, что он называл «метафизикой права» — то есть от базовых принципов и определений, оторванных от всякого реального права и всякой реальной формы права. Влияние Гегеля, чьи лекции он слушал в Берлинском университете у Эдуарда Ганса, направило его к пониманию государства как «внутренне разумной сущности». Однако, в отличие от Гегеля, для которого философия осмысляла уже свершившееся прошлое («сова Минервы вылетает в сумерки»), Маркс стремился превратить философию в инструмент формирования будущего — будущего, возникающего не из произвольной воли, а из объективной тенденции, разворачивающейся в настоящем. Таким образом, марксистская теория демократии с самого начала строилась не просто в противовес абстрактным нормативным теориям, но и в соответствии с динамикой истории, в контексте философии практики, нацеленной на изменение мира.
В своей докторской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1839–1841) Маркс, используя прометеевскую символику, требует освобождения человека от всех небесных и земных богов, «которые не признают человеческое самосознание в качестве высшего божества». Философия, по Марксу, ставшая миром, восстает против мира явлений. Она перестает быть чисто созерцательной и, «как практический человек, плетет интриги с миром».
Михаил Лифшиц в своем анализе диссертации Маркса утверждал, что в эпикурейской теории отклоняющегося атома Маркс метафорически рассматривал современные ему социально-политические проблемы. Атом, подчиненный необходимости (падению), подобен буржуа, члену гражданского общества; но как абсолютная единица, он свободен и независим, подобно гражданину Французской революции. Отклонение атома — это проявление свободы, но свободы
от бытия, а не в бытии. Подлинная индивидуальность не может реализоваться в мире материальной необходимости. Решение, по Марксу (в интерпретации Лифшица), заключается не в бегстве от этого мира, а в его преобразовании, в объединении мира материальных потребностей и политических идеалов демократии. Отклонившийся атом встречается с другими атомами, они образуют «договоры» и сообщества — так Эпикур предстает как «теоретик общественного договора», «руссоист до Руссо».
Значительное влияние на раннюю политическую теорию Маркса оказал «Богословско-политический трактат» Спинозы, конспект которого Маркс делал в Берлине. Хотя Маркс не оставил комментариев, выбор отрывков свидетельствует о его интересе к радикально-демократическим идеям Спинозы. Маркса привлекают теория естественного права Спинозы, его теория договора как способа основания государства, и его определение демократии как общества, которое «распоряжается всей своей властью как единое целое». Маркс также конспектирует рассуждения Спинозы о том, что подлинная свобода заключается не в потакании своим прихотям, а в «жизни с полного согласия под руководством разума». Соответственно, «свободным государством» является то, чьи законы основаны на здравом разуме. Особое внимание Маркс уделяет защите Спинозой свободы мысли и слова, которые являются основополагающими принципами демократии. Для Спинозы, как и для Маркса, «истинная цель правления — это свобода».
В университетские годы Маркс столкнулся с двумя главными течениями в философии права: Исторической школой права, представленной Фридрихом Карлом фон Савиньи, и гегельянской философией права в лице Эдуарда Ганса. Историзм Савиньи, его органический подход к праву как к проявлению «народного духа», растущему и умирающему вместе с нацией, несомненно, повлиял на Маркса, укрепив его в неприятии абстрактных, внеисторических правовых конструкций. Однако политически Маркс был ярым противником реакционного романтизма этой школы.
Решающее влияние на него оказал Эдуард Ганс, чей подход был смесью гегельянства и сен-симонизма. Ганс видел в принципах Французской революции историческое воплощение разума и призывал к реформам для преодоления иррациональных «явлений» в современной ему политике. Именно через Ганса молодой Маркс воспринял гегелевскую идею о том, что «что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно» не как оправдание существующего, а как призыв к его преобразованию. Кроме того, Ганс, испытавший влияние Сен-Симона, придал изучению государства социальную глубину. Он обратил внимание на проблему бедности и на принцип кооперации (Vergesellschaftung), что заложило основы социального измерения в политической теории Маркса.
Республиканский «момент»: от критики политики к теории разумного государства
В период работы в «Рейнской газете» (1842–1843) Маркс переходит от чисто философских изысканий к прямой политической критике. Первоначально его внимание сосредоточено на вопросах свободы печати и цензуры, то есть на публичном использовании разума. Он защищает абсолютную автономию политики от любой другой сферы человеческой деятельности. Однако с октября 1842 года, став главным редактором, Маркс все больше обращается к экономическим вопросам, пытаясь связать материальные интересы и государство.
В своих статьях Маркс развивает концепцию «разумного государства», или «разумного и нравственного сообщества». Эта концепция во многом является развитием идей социального республиканизма младогегельянцев, таких как Бруно Бауэр, Людвиг Фейербах и Арнольд Руге, с которыми Маркс в тот период тесно общался. Марксистский республиканизм противостоит как абсолютизму, так и классическому либерализму в его индивидуалистической и утилитарной форме. Он основывается на идее активного участия в жизни полиса, на воспитании гражданских добродетелей и на примате общего интереса над частными.
Маркс отвергает формалистические подходы к государству и праву, заявляя, что «форма не имеет никакой ценности, если она не является формой содержания». Он призывает «брать мир таким, каков он есть, не быть идеологами». Маркс провозглашает «коперниканский переворот» в теории государства: подобно тому, как Коперник открыл истинную солнечную систему, мыслители от Макиавелли до Гегеля начали рассматривать государство «человеческими глазами» и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии. Закон тяготения государства был найден внутри самого государства.
Разумное государство, по Марксу, — это «свободное объединение нравственных людей». Оно представляет собой «великий организм, в котором должны реализоваться правовая, нравственная и политическая свобода, и в котором отдельный гражданин, повинуясь законам государства, повинуется только естественным законам своего собственного разума, человеческого разума». В таком государстве законы — это не репрессивные меры против свободы, а «положительные, ясные, всеобщие нормы, в которых свобода приобрела безличное, теоретическое существование, независимое от произвола отдельного индивида. Свод законов — это библия свободы народа».
Это позитивное понимание свободы как реализации сущности человека резко контрастирует с либеральным пониманием свободы как отсутствия принуждения. Маркс критикует государство, служащее частным интересам. «Частный интерес, — пишет он, — достаточно хитер, чтобы довести это следствие до того, что частный интерес в его самой ограниченной и жалкой форме делает себя пределом и правилом для действий государства». Он противопоставляет сословную систему, представляющую мир частных интересов, необходимости разумного государства, которое реализует всеобщий интерес.
Ключевым элементом такого республиканского государства является свобода печати. Это не просто одна из свобод, а «воплощение свободы», «позитивное благо». «Свободная печать, — пишет Маркс, — это вездесущее бдительное око народной души, воплощение веры народа в самого себя, красноречивая связь, соединяющая отдельного человека с государством и миром». Она является «духовным зеркалом, в котором народ может видеть себя, а самоанализ — первое условие мудрости». При этом Маркс подчеркивает, что свобода печати не должна быть разновидностью свободы торговли; ее первейшая свобода заключается в том, чтобы «не быть ремеслом».
Маркс также подвергает резкой критике бюрократию, этот замкнутый круг, в котором «сферой деятельности властей является государство, тогда как мир вне этой сферы деятельности — лишь объект государственной деятельности». Бюрократии полностью чужды «государственный образ мыслей и государственное понимание».
Диалектический «момент»: «Истинная демократия»
Кульминацией докоммунистической теории демократии Маркса становится концепция «истинной демократии», разработанная в рукописи «К критике гегелевской философии права» (1843). Эта концепция представляет собой диалектическое снятие, то есть преодоление и развитие, республиканских идей, сформулированных в «Рейнской газете». «Истинная демократия» выступает как философская прелюдия к коммунизму.
Маркс подвергает критике гегелевскую софистику, согласно которой существующая конституция (в данном случае прусская монархия) объявляется разумной. Он утверждает, что если конституция не должна быть просто иллюзией, которую в итоге насильственно разрушат, то движение, развитие должно стать принципом самой конституции, а ее реальный носитель — народ — должен стать ее принципом.
В основе «истинной демократии» лежит принцип суверенитета народа. Маркс критикует гегелевское возвеличивание монарха как воплощения индивидуальности государства. Для Маркса «в монархии мы имеем народ конституции; в демократии — конституцию народа». Он отстаивает всеобщее избирательное право, отвергая богатство и собственность как предпосылки для получения статуса гражданина. При этом Маркс проводит различие между демократией и республикой. Политическая республика (как, например, в Северной Америке) — это «демократия в рамках абстрактной государственной формы». Она все еще сохраняет отчуждение политической жизни от реальной жизни народа.
«Истинная демократия», по Марксу, — это «разгаданная загадка всех конституций». В ней происходит «уничтожение политического государства» (der politische Staat untergehe). Это означает, что государство как особая, отделенная от общества сфера, как совокупность бюрократических институтов, упраздняется. В отличие от всех других форм правления, где государство, закон, конституция господствуют, не пронизывая материально содержание остальных, неполитических сфер, «в демократии конституция, закон, само государство, поскольку оно является политической конституцией, есть только самоопределение народа и определенное содержание народа».
Гегель, по Марксу, исходит из государства и делает человека субъективированным государством; демократия же исходит из человека и делает государство объективированным человеком. Как не религия создает человека, а человек создает религию, так и не конституция создает народ, а народ создает конституцию. Демократия есть сущность всех государственных конституций — «обобществленный человек (der sozialisierte Mensch) как особая государственная конституция».
Это снятие раскола между гражданским обществом и политическим государством, между частным человеком и гражданином, является центральным пунктом концепции «истинной демократии». Маркс видит в бедности не естественное, а социальное явление, порожденное этим расколом. Преодолеть его можно только через упразднение политического государства и поглощение его обществом, что и означает превращение народа в демоса, в сообщество свободных личностей. Маркс убежден, что «свобода и нищета несовместимы».
При этом «истинная демократия» не означает отмены политики как таковой. Напротив, это «политика по преимуществу, расцвет политического принципа, его апофеоз». Политика перестает быть профессией и привилегией бюрократов, служащей частным интересам, и становится жизненной функцией самоопределения народа, коллективным эстетическим творчеством. Это не анархия, а конец «представительного» государства, стоящего над обществом. Демос не предшествует демократии; он создается в процессе политической деятельности.
Таким образом, «истинная демократия» — это не просто форма правления, а процесс постоянной демократизации, превращения общества в самоуправляющееся сообщество. Она является философской прелюдией к будущей концепции коммунизма Маркса как «реального движения, которое упраздняет нынешнее состояние вещей». Когда «истинная демократия» упраздняет государство как механизм несвободы, она спасает и преобразует политику как высшее искусство формирования новых человеческих отношений.
Заключение
В заключительной главе Хрисис подводит итоги своего исследования. Он еще раз подчеркивает, что центральным вопросом докоммунистической теории демократии Маркса является самоопределение народа как суверенного коллективного субъекта. Демократический характер политической системы оценивается не на уровне правительства, а на уровне законодательной власти, где проявляется суверенитет демоса.
«Истинная демократия» Маркса противопоставляется как демократии античного полиса, так и современным теориям либерального государства. Если в античности рабство делало политическую свободу привилегией немногих, а в современную эпоху раскол между государством и гражданским обществом превращает права и свободы в иллюзию, то «истинная демократия» призвана преодолеть эти ограничения. Она означает упразднение разделения между гражданским обществом и политическим государством, что становится возможным благодаря разрешению «социального вопроса», то есть преодолению нищеты.
Книга Хрисиса убедительно доказывает, что у Маркса существует оригинальная и последовательная теория демократии, которая формировалась в диалектическом взаимодействии с философскими и политическими течениями его времени. Концепция «истинной демократии» предстает не как «юношеский грех» или незрелая идея, а как глубоко продуманный стратегический проект, имеющий огромное значение не только для понимания дальнейшей эволюции мысли Маркса к коммунизму, но и для современной критики так называемой парламентской демократии и поиска путей к подлинному народовластию.
файл на английском
|
|
</> |

-700x500w.png) Что умеет Avatr 06: подробный обзор без воды
Что умеет Avatr 06: подробный обзор без воды  Сезон цветения
Сезон цветения  Неудачное испытание "Сармата"?
Неудачное испытание "Сармата"?  Музей быта СССР. Санкт-Петербург. Часть 1
Музей быта СССР. Санкт-Петербург. Часть 1  Убийство Романа Новака... Тарантино отдыхает...
Убийство Романа Новака... Тарантино отдыхает...  Новости культуры и искусства за неделю
Новости культуры и искусства за неделю  YKJ-1000
YKJ-1000  Как выбрать направление для путешествия с ребенком: примеры для разного
Как выбрать направление для путешествия с ребенком: примеры для разного