МарШ сПРАВЕдЛИВОстИ
 likushin — 20.05.2024
5.
likushin — 20.05.2024
5.А.Н. Веселовский, Из лекций по истории эпоса (1884 год): «… чем древнее сказка, тем проще её схема, и чем новее, тем более она осложняется».
Ирландец Оскар Уайлд, писатель, мудрец и человек известной репутации, зафиксировал «осложнение» древней басни о кинике Диогене Синопском, наблюдая современников своих: Циник – человек, знающий всему цену, но не знающий никаких ценностей (a man who knows the price of everything and the value of nothing).
Меня едва не всю мою жизнь сшибает с ног не то циничное, не то идиотическое сближение торговой «цены» (меновой стоимости) и духовных «ценностей», обмену «как бы» не подлежащих, ни при каких условиях – к выгоде или убытку. В виде ли и образе Писаревских полезных сапог и бесполезного в смысле «практической» жизни Пушкина, или в чём ином подобно сопоставляемом. Бедность ли великого русского языка в том «виновата»? Нет же. Но ведь начинаешь рассуждать (судить), погружаясь в эту материю, и с первого метра на входе тонешь по самые ключицы: «бедность языка» и «богатство языка»; «праведный» (пред Богом) и «Русская правда» (судебник с торжеством справедливости) ***
Можно, думаю, без натяжки сказать, что в исторической сшибке иосифлян и нестяжателей спор был о концепции не столько Церкви, сколько Государства. Победу одержали «симфонисты», поверившие византийской сказке, двуглавый орёл им в помочь. Пётр Великий дописал симфонию, как дописывался за Моцарта «Реквием», едва им начатый по заказу легендарного чорного человека. Церковь обратилась в функцию государства. В феврале 1917 функция вышла из концерта, отреклась от «Боже, Царя храни», во имя новой как чуть ли не окончательной справедливости. Функция вышла, торжествуя, и тут же захлебнулась в крови. «Народ-богоносец», ища справедливости своей в новой своей вере, сделал то, что он сделал. Чем не русский протестантизм? И чем финал сказки, сделанной былью, отличается от увиденного Герценом, от его оценки вере «передовых» протестантов Западной Европы: «Из протестантизма они сделали свою религию, – религию примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика, – религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за нее, её оставил».
***
Русский философ Владимир Соловьёв, начиная с работы «Великий спор и христианская политика» (1883 год) и до конца дней своих, исповедовал идею обожения человечества и природы в духе Христовом. Прямо говоря – при виде уходящей на дно великого потопа поднебной лодки человечества и русского мира в нём, звал к «оцерковлению государства», к сказочной «теократии», для чего надо «всего лишь» соединить несоединимое – Церкви и конфессии, обнулить прежние споры и стать под десницу Папы Римского с ключами и «непогрешимым» правом «вязать и развязывать» по справедливости. Чем не выход из тупикового лабиринта, чем не путь? Но и как тут не вспомнить динарий Кесаря – знаменитейший Евангельский сюжет?
Фёдор Достоевский в романе «Подросток» (1874-75 годы) выводит одного из клинически двоящихся персонажей – Версилова, который, разом, «и дворянин древнейшего рода», и «парижский коммунар», и «бабий пророк» Чаадаев, и «лишенцы» Онегин с Чацким. Так вот, эта, очередная версия излюбленного Достоевским двойника додумывается в своём мучении, в пытке Богом («Бог мучит» скажет после Митя Карамазов) до своей версии идеального и кардинального решения древнейшего вопроса. Убрать религию вообще, упразднить в корне, изъять заповедь «возлюби Господа Бога твоего». Тогда и тем самым, по вере Версилова, человеки перекроют утечку эфира любви из замкнутого и ограниченного пространства поднебной лодки своей, эгоистическое в корне «спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся» обнулится во взыскующих Вечности душах, и вся-то их любовь обрушится на них самих, поголовно и пожизненно «ближних» – «на природу, на мир, на людей, на всякую былинку». Распадётся само собою древнейшее проклятие антагонизирующей дихотомии добра и зла, рассыплется прахом ветхозаветное Дерево познания, суда и справедливости. Все станут «как дети».
А там уже впору показывать народам картинку видения «как у Гейне, “Христа на Балтийском море”», да и раздавать безвозмездно по ушам, развешенным на тростниках золотого века, «великий восторженный гимн нового и последнего воскресения».
Чем не выход из тупикового лабиринта, чем не путь?
Из Ариадниной, указующей путь, нити легко вяжутся удавки. И – на гвоздик, за дверцей в чулане под лестницей в небеса. Stairway to Heaven: «…and sheʼs buying a stairway to Heaven». Welcome home!
Оно да – удавки-то, конечно, русской выделки, но при этом «всечеловеческого» применения. Как нарубил пером попачканный, равно с Иваном Ильиным восторженностью перед нацистами «Рахманинов русской философии» (которой как бы и нет, - sic!) Борис Вышеславцев, «не существует никакой специально русской философии. Но существует русский подход к мировым проблемам, русский способ их переживания и обсуждения». Дерзну поправить Достоевского в Мите Карамазове, в словах «А меня Бог мучит. Одно только это и мучит»: мучат человека Бог и Справедливость, всегда парой. Мучат нещадно, не взирая на лица и лики, мучат до смерти и через неё.
А между тем, здесь, в этом непрестанном русском искании выхода из пределов прочнейшего корпуса поднебной лодки человечества всё та же мольба: «Заберите меня, пацаны, отсюда! Ради Бога, миленькие, заберите!»
***
Иоганн-Вольфганг Гёте: Wunder dessen, was da ist. – Чудо того, что есть.
Каким-то странным, совершенно «волшебным» образом персонажи Достоевского забывали о присутствии в мире третьей силы, третьей власти, «помимо» Бога и человека. Сила эта и власть, «княжеская», олицетворена в Сатане, в чорте, в первом из Ангелов, падшем. И что ещё волшебнее и страннее, забывали об этом иные, если не все скопом проектировщики окончательного решения вопроса спасения человечества из дурной бесконечности гармонической константы справедливейшего из чисел. И ладно – забывали, отрицая, атеисты-материалисты, но ведь «забывали» вполне, по видимости, верующие люди, с морально-любовной интенцией.
Верну на минутку венчающего розу красную с чорной жабой Н. Бердяева: «И мы должны принять истину социализма, чтобы тем самым бороться против лжерелигиозного пафоса социализма, против культа социального демократизма как цели, а не временного средства. Коллективная материальная, плотская жизнь человечества перестанет быть мещанской и плоской лишь тогда, когда она сделается религиозно-эстетической, когда вернётся нашей новой культуре коллективная мистическая чувственность былых религиозных эпох и соединится с свободной индивидуальностью религиозного настроения».
Но это «Подростковый» Версилов, его «вера»: сначала Бога устранить, обернуть всю «узурпированную» Им любовь на себя любимых, а уж после «времени» позвать Его на коллективно-мистические, чувственно-осязательные прогулки по воде. Балтийской, как у Гейне, но именно как «в былые религиозные эпохи». И ведь никто-то Николаю Александровичу Бердяеву за всю его долгую жизнь не объяснил, что нет ничего более постоянного, чем временное. Ленин тоже мечтал временно устроить мещанство, НЭП, а потом уже, на постоянной основе насадить в назидательных целях справедливо-золотые унитазы по иным европейским столицам. Что вышло, мы, живущие во второй буржуазной (мещанской) республике, знаем не понаслышке. Но если Версилов, по Достоевскому, пародия на Чаадаева, ожидавшего прихода «политического Христа», то дождавшийся «не того пришествия» Бердяев в этом смысле не что иное как живая карикатура.
И ведь тут же на венчальную сцену выскакивает первый в двусветностях справедливолюбец, не то потасканный, не то в славе и в крыльях: «Всё это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человечек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...»
И ловко-решительно прихлопнет дело «новой культуры», точно таракана туфлей: «Для Бога не существует закона! Где станет Бог – там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... “всё дозволено”, и шабаш!» Старшим надо уступать место – таков закон справедливости и… любви, по которому первенцу-то самое время «воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить».
Достоевский, «Бесы», изъятая в первой публикации глава «У Тихона»: « - А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в бога? - засмеялся Ставрогин. - О, очень можно, сплошь и рядом, - поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся».
***
В любви к человечеству все 24 карата золота справедливости. Лучшая проба для ленинских унитазов.
Б.Вышеславцев, в «Философской нищете марксизма»: «Русские материалисты, позитивисты и атеисты (в стиле Базарова) ещё были порядочными людьми, добрыми “идеалистами” и горели любовью к человечеству. Это про них Вл. Соловьёв сказал: “человек произошёл от обезьяны, а потому будем любить человека!” Они не замечали в этом никакого противоречия. Но вот любовь к человечеству начала превращаться в ненависть к живым людям, в требование универсальной гильотины у гуманного Белинского. Миросозерцание материализма и атеизма нисколько этому не препятствовало, ибо оно не знало никаких абсолютных мистических запретов. Великий Инквизитор Достоевского ещё говорил о любви к людям, но из этой любви вытекало полное презрение к живой личности и грандиозно организованная инквизиция.
Наконец, Маркс окончательно бросил и возненавидел эту фразеологию гуманности и любви; он не говорит о морали и справедливости, оставаясь верным своему материализму и атеизму. Однако он этой верности не выдерживает и вступает на путь морализирующего имморализма. Это одна из самых отвратительных психических установок: Маркс беспрерывно морализировал, изобличая и осуждая своих врагов, и вместе с тем сам интриговал, лгал и клеветал (дело с Бакуниным), проявляя последовательный имморализм».
Есть соблазн отнести уничижающую критику Вышеславцевым личности Маркса к ярому антикоммунизму первого, вполне себе уютно устроившемуся в обители Третьего Рейха; есть соблазн брякнуть тем, что Вышеславцев «списал» «морализирующего имморалиста» Маркса с имморализирующего моралиста Сатаны Достоевского («Братья Карамазовы»). Но ведь, положа руку на сердце, нужно признать, что и первый соблазн, и второй ложны. В намертво замурованной – от Неба и Преисподней – Платоновой пещере познанию поддаётся только претендент на «первое место», в котором мораль и справедливость (любовь) обращена не вовне – на «ближних» и «дальних», а на самоё себя: «“всё дозволено”, и шабаш».
Достоевский, в «Братьях К.», через (как ни странно) Алёшу Карамазова: «Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился чорт и залез во всё поколение, именно чорт».
Но это у лорда Байрона в «Манфреде» «Бессмертный дух сам суд себе творит / За добрые и злые помышленья», это у тех, иных, что некогда «ещё были порядочными людьми, добрыми “идеалистами” и горели любовью к человечеству». Тут, при начале нового дивного мира (Хаксли) прежнее «было и прошло», тут суд торжествующе закрывается на акте открытия.
Чорт. Всем «известный» и мало кем видимый. Вроде архетипа. Вот же, по Карлу Густаву Юнгу архетип (комплексный образ) описать практически невозможно. Что возможно, так это говорить о его проявлениях, его проекциях. О тенях. О том, что непредсказуемо, нелогично и враждебно человеку. Как мир в текстах Франца Кафки, где справедливость неотличима и неотрывна от несправедливости. Но неужели есть на свете люди, думающие (sic!), будто это только «в книжках» так бывает, на неуроках нерусского языка? Впрочем, есть лазейка: можно представить дело «онтологически», через определение, данное Хайдеггером бытию: «Каждый человек, существующий в истории, знает бытие непосредственно, не постигая его, правда, как таковое».
Всё сомкнулось сошлось в глубинах открывшихся Зазеркалий: Платонова тень морализирующего имморалиста совокупилась с двойником-оборотнем – тенью моралиста имморализирующего.
Отчего не вспомнить справедливость (свод понятий) «государства в государстве» – воровского мира, мафии и прочих маргинальных проявлений социума?
***
Из поднебной лодки проекта Справедливость выхода нет? Или «раз, два и обчёлся», как было мною же и объявлено как заподозрено, и есть всё-таки нечто «аварийное», некий люк, некая шахта, некий аппарат, некий «долгий путь от сперматозоида до командира», как в замечательной фильме «72 метра»? Тяжолый, тяжелейший, в квадриллион километров путь, по которому следует ступать легко, неслышимо, по-русски…
«- Легкоступов, ты знаешь, какая у тебя фамилия? Легкоступов, то есть, лёгкий, можно сказать, воздушный... Ты чего написал?! Тельняшка через букву “и”, шинель через букву “е”, а ботинки вообще!.. Ты чего, Легкоступов?! Ты слушай меня, Легкоступов. В русском языке есть слова, их там много. Когда их составляешь вместе, получается предложение, где есть сказуемое, подлежащее и прочая светотень. И всё это – великий русский язык, Легкоступов. Ты меня понял?!
- Так точно, товарищ командир!
- Так вот, у нас великий русский язык! В нём переставь местоимение, сказуемое и подлежащее, и появится интонация! “Наша Маша горько плачет” или “Плачет наша Маша горько”. Ты понимаешь?! Это ж поэзия! Это ж былины, мамкина норка!.. А есть вообще предложения в одно слово: “моросит”, “вечереет”, “смеркается” ... Ты чувствуешь?
- Так точно, товарищ командир!
- Ни хрена ты не чувствуешь! Когда я читаю, что ты написал, я чешусь в самых нескромных местах! Тут же член можно сломать, пока до конца абзаца доберёшься! Кто тебя учил?
- В школе.
- Покажи мне, и я разорву его, как тузик грелку.
- Я же говорю – в школе.
- А я что, за границей, что ли учился, Легкоступов?!
- Если б мне в школе бы так!.. Доходчиво!.. Я б…
- Вольно...»
В «Бесах» у Достоевского есть персонаж Иван Шатов, из крестьян, из университета отчислен за «беспорядки». Уехал в Европу, стал «социалистом», да разуверился отчего-то. Переуверовал в «русский народ-богоносец». За справедливость готов на жертву собой. Его-то и убивают «бесы». Вот в нём-то и плещется и бурлит «поэзия» и «светотень» с «нашей Машей горько плачет» и с предложением в одно слово, как бы существительное, как бы существующее – справедливость. Только его недоучили – ни в школе, ни в университете, ни в прочих отсеках поднебной лодки – великому русскому языку; у него, как и у нас чуть не поголовно, весь Гоголь с «Шинелью» через букву «е» с ненормативным хвостиком, придающим одной буковке полноту лексического значения.
Такая вот «мамкина норка». Такой вот «русский подход к мировым проблемам, русский способ их переживания и обсуждения».
Вольно!
Достоевский, в «Братьях К.», через (как ни странно) Алёшу Карамазова: «Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился чорт и залез во всё поколение, именно чорт». Прямая дорога к доктору, к психиатру. «Но ведь доктор, как говорят, что духовник», – выводит Достоевский в «Двойнике». Тот же монах Тихон, «только» без Бога и Сатаны. Но непременно со Справедливостью. Примером тому и доктор Рутеншпиц (зеркально – «шпицрутен») из «Двойника», человеколюбиво прописывающий «антисоциально» ведущему себя Голядкину «казённый квартир, с дровами, с лихт и с прислугой, чего ви недостоин». Впрочем, «История безумия в классическую эпоху» Мишеля Фуко даёт любознательному довольно примеров «казённых квартир» в просвещонной и сострадательно-справедливой Европе. А уж злобный сиквел Сервантесова «Дон Кишота», вброшенный по горячим следам первого издания великого романа неким монахом доминиканцем (инквизиция), сам по себе образец для грядущей в мир карательной психиатрии ХХ века.
(Отчего не XXI-го, где тяга человечества к саморазрушению – через через навязываемое известными манипуляциями «групповое сознание» – набрала максимальные в новой истории обороты: прогресс?)
***
У главного «Флойда» – Роджера Уотерса, есть песенка с заголовком Amused To Death. В музыке, на мой взгляд, автор занят самовоспроизведением (повторением пройденного), но в тексте, где не Бог весть сколько поэзии, имеется и нечто дельное. Мысль. Мысль репортёра. Или гробовщика.
Возможно – Адриана Прохорова.
… Мы все видели, как разворачивается трагедия
Мы делали то, что нам говорили
Мы покупали и продавали
И это было величайшее шоу на Земле
Но оно внезапно закончилось
Мы охали и ахали
Одни пытались убежать на своих гоночных автомобилях
Другие ложками доедали остатки икры
А где-то там, среди звезд
Чей-то острый глаз заметил вспышку
Наше последнее "ура"
Наше последнее "ура"
И когда они разглядели наши тени
Сидящие вокруг телевизоров
Они провели все исследования
Они перепроверили результаты тестов
И даже после этого пришелец-антрополог
Признался, что он в полном недоумении
Но он не видит иных причин
Для нашей печальной кончины
И он записал единственное оставшеесся объяснение:
Эти особи довели себя удовольствиями до смерти
Слёз не осталось, чувств не осталось
Особи довели себя удовольствиями до смерти
Они довели себя до смерти…
На английском дворе Уотерса 1992 год. Сколько удовольствий ещё впереди?
Мартин Хайдеггер: «История бытия никогда не в прошлом, она всегда впереди. Она несёт на себе и определяет собой всякую condition et situation humaines, всякую человеческую участь и ситуацию».
|
|
</> |

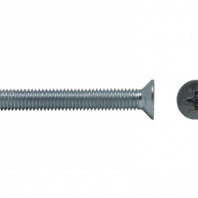 Винт DIN 965 и стопорное кольцо DIN 472 – надежные и универсальные изделия
Винт DIN 965 и стопорное кольцо DIN 472 – надежные и универсальные изделия  Ватсон уже не тот
Ватсон уже не тот  & Other Stories
& Other Stories  День рождения Людмилы Савельевой
День рождения Людмилы Савельевой  Шива-пурана. Кумара-кханда (Ганга, 2024)
Шива-пурана. Кумара-кханда (Ганга, 2024) 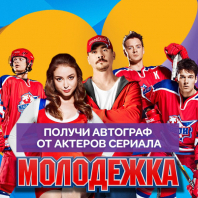 сериал: Молодежка (2013, Россия) Жанр: драма, спорт
сериал: Молодежка (2013, Россия) Жанр: драма, спорт  Про лучший язык для общения
Про лучший язык для общения  Сирийский разлом
Сирийский разлом  Контрольная точка: Полночь
Контрольная точка: Полночь 



