Кое-что о церковности
 anchoret_lander — 18.03.2010
Те, кто застал священнослужителей старого поставления,
принадлежавших ещё к старой церковной традиции, спокойных и
благочестивых, мудрых не из книг, а из жизни, твёрдо стоящих на
ногах и безмятежно смотрящих в будущее, лишенных пафоса и
елейности, но обладающих глубоким чувством собственного
достоинства, непревозмогаемым наскоками церковных и светских
властей, и т.д. и т.д., так вот те, кто их ещё застал, т.е. имел с
ними личное общение, не могут не обратить теперь внимание на то,
как разительно отличалась их церковность от той, что становится
нормативной в наше время.
anchoret_lander — 18.03.2010
Те, кто застал священнослужителей старого поставления,
принадлежавших ещё к старой церковной традиции, спокойных и
благочестивых, мудрых не из книг, а из жизни, твёрдо стоящих на
ногах и безмятежно смотрящих в будущее, лишенных пафоса и
елейности, но обладающих глубоким чувством собственного
достоинства, непревозмогаемым наскоками церковных и светских
властей, и т.д. и т.д., так вот те, кто их ещё застал, т.е. имел с
ними личное общение, не могут не обратить теперь внимание на то,
как разительно отличалась их церковность от той, что становится
нормативной в наше время.От них нельзя было услышать никаких пустых разговоров о "духовности" или, не дай Бог, "обожении", но в то же время можно было почувствовать исходящий покой (духовный? душевный? да без разницы), который заражал окружающих и без всяких слов отвечал на их вопросы и успокаивал их надрыв.
А сейчас именно этот надрыв, похоже, и стал нормой церковности. Лишенные опыта личного общения с носителями традиции, сотни пастырей и тысячи пасомых создают свою собственную традицию: они запоем цитируют Лествичника, Дамаскина, Сирина (и Смирнова, а как же), ищут ссылки в канонах и правилах, внешне смиренно, но с внутренним убеждением в своей непререкаемости рассуждают о филиокве, фаворском свете, Иисусовой молитве и плодах причастия. Вдоволь потрудившись таким образом, начитавшись канонов и акафистов, они не приобретают для себя ничего, но остаются с ощущением неудовлетворенности, которую спешат утолить за счёт ближних, вынося мозг себе и окружающим: несчастны их домашние и коллеги по работе. Их церковность - неисчерпаемый источник поводов для тех, кто их ищет, так что если бы стёб врагов церкви не носил присущий ему глумливый и кощунственный характер, множество верующих людей, как мне кажется, вполне разделили бы его по сути.
Вот и сейчас вынужден был посоветовать одному р.Б. минимум на год перестать читать святых отцов, и предаться чтению хоть бы и Диккенса с Тургеневым (или Винни-Пуха, как в ставшей уже классикой истории). Был вежливо выслушан, но был ли услышан? Нет, не думаю. На эту церковность, похоже, подсаживаются, как на иглу.

 Как выбрать духи Nina Ricci
Как выбрать духи Nina Ricci  От I'm Siberian
От I'm Siberian  WB хайпануть решили?
WB хайпануть решили?  Томаты Дворника, часть вторая, тепличная
Томаты Дворника, часть вторая, тепличная  28 Июля — День Крещения Руси! С Праздником, братья и сестры!
28 Июля — День Крещения Руси! С Праздником, братья и сестры!  45 лет назад не стало Владимира Семёновича Высоцкого
45 лет назад не стало Владимира Семёновича Высоцкого  Выставка художника Женя Жари "На глубине только и разговоры о любви"
Выставка художника Женя Жари "На глубине только и разговоры о любви" 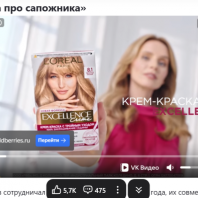 Рано обрадовалась!
Рано обрадовалась! 



