Истоки русской демократии
 sergeytsvetkov — 17.03.2023
sergeytsvetkov — 17.03.2023
На Руси развивался своеобычный тип государственного управления, совершенно чуждый западному пониманию демократии.

Догосударственный быт славян
Самые ранние письменные сведения о социальной организации древних славян относятся к первой половине VI века н.э. Хрестоматийное этнографическое описание славян содержится в сочинениях императора Маврикия и Прокопия Кесарийского, византийского военного и государственного деятеля.
Социальную организацию славянских племен Прокопий называет народовластием. В отличие от него, Маврикий полагает, что славяне пребывают в состоянии анархии и взаимной вражды, не зная порядка и власти, и добавляет, что у славян есть множество вождей, которые обыкновенно живут в несогласии друг с другом. Все это типично для родоплеменного общества. Но замечание Маврикия об «анархии» следует понимать в том смысле, что у славян не было единодержавия, подобного императорской власти, которая для византийских писателей являла единственный образец подлинно легитимной власти.
Политический статус славянских «вождей» и размеры их власти остаются для нас неясными. Византийские писатели обыкновенно употребляют по отношению к предводителям славян термин «архонты», который вообще прилагался к независимым правителям варварских племен и племенных объединений. Но вместе с тем целый ряд текстов позволяет сделать вывод о существовании среди славянских вождей определенной иерархии.
Например, готский писатель Иордан, тоже живший в 6 веке, рассказывает один эпизод, относящийся к славянской истории 4 века. В то время на территории Северного Причерноморья существовала могущественная держава готов. Славянские племена, обитавшие на землях Восточного Прикарпатья, были подчинены готам и платили им дань. Но когда на готов напали степные племена гуннов, славяне отказались поддерживать своих угнетателей и выступили против них с оружием в руках. В первой стычке славяне одержали верх, но в конце концов победа осталась за готами. Чтобы удержать славян в повиновении, готский предводитель Винитарий прибегнул к террору. По его приказу были распяты славянский вождь по имени Бож, его сыновья и 70 знатных людей (Иордан называет их «первые», primarios). Интересно, что Иордан проводит равенство в титулатуре победителя и побежденного. И Винитарий и Бож названы у него королями (regem). Видимо, славянский князь Бож возглавлял крупный союз семидесяти славянских родов, во главе которых стояли менее крупные вожди или племенные старейшины. Вместе с тем рассказ Иордана свидетельствует о высоком внутриплеменном авторитете славянских вождей, так как расправа над верхушкой славян прекратила их сопротивление готам.
Этот эпизод сравним с рассказом Тацита о том, как знатный германец Сегест советовал римскому полководцу Вару заключить в оковы вождей германского племени херусков. «Простой народ, — уверял он, — ни на что не осмелится, если будут изъяты его предводители».
Племенной знати, следовательно, уже принадлежала ведущая роль в управлении. Хотя по замечанию Прокопия все дела решались у славян сообща, термин «военная демократия», введенный в историческую литературу Энгельсом, строго говоря, неприемлем для определения общественного строя варварских народов. «Демократическая» стадия развития доисторических обществ — не более, чем иллюзия. В варварских коллективах власть изначально носила аристократический характер, то есть предполагала высокое личное значение вождя, исправлявшего высшие военные, судебные и жреческие функции, которые постепенно закреплялись за одним, «царским» родом. Под «демократизмом» властных отношений у славян, таким образом, следует понимать только непринудительный, добровольный характер связи знати и рядовых членов племени.
Сохранить этнографическое лицо, не раствориться в чуждом окружении славянам помогала крепкая и эластичная «десятичная» социальная организация. В начальный период заселения Восточно-Европейской равнины (VI–VII вв.) её основой была патриархальная родовая община. Каждому такому крупному коллективу родичей принадлежало около 70–100 кв. км окрестных земель, так как подсечно-переложная система земледелия требовала освоения территории, в 10–15 раз превышавшей площадь ежегодного посева.
Родовая община и занимаемая ею земля назывались коном. Понятийные грани древнеславянского слова кон (от инд.-евр. коn/кen – возникать, начинаться) чрезвычайно многообразны: это и вообще рубеж, предел, межа, ограниченное место; и затерявшееся во времени начало (отсюда слова «искони», «спокон»); и завершение чего-то («конец», «доконать», «кон его пришёл» — то есть черёд, гибель, смерть); и устойчивый порядок в природе и обществе («закон», «покон»). Община и была для древнего человека началом и концом, собственником земли, источником правовых норм.
Военная организация кона носила название сто и объединяла концы или десятки — большие патриархальные (трёхпоколенные) семьи, из которых состояла родовая община. Один из концов почитался старейшим, ведущим происхождение напрямую от предка-покровителя (обычно легендарного), некогда давшего жизнь всему роду. Старейшина такого конца, «владеющий роды своими», возглавлял общину-кон по праву старшинства и назывался «конязь», «кънязь», то есть «старейший в роду», «родоначальник кона». Десять родственных конов составляли «малое племя», выставлявшее в поле «тысячу». Один из таких конов опять же претендовал на бóльшую древность происхождения сравнительно с другими и считался первенствующим, «княжеским». Все родственные друг другу малые племена в их совокупности покрывало общее племенное название («вятичи», «радимичи», «кривичи» и т. д.).
Принадлежавшая союзу малых племен территория называлась землёй, а общеплеменное ополчение — полком. Родоплеменная иерархия старшинства сохранялась и на этом уровне. В союзе малых племен выделялось одно, «старейшее» малое племя со старейшим «княжьим» коном, в котором княжил глава старейшего «княжьего» конца. Он-то и признавался остальными малыми племенами князем земли.
В дальнейшем естественный прирост населения, сопровождаемый техническим прогрессом в области земледелия, привёл к разрастанию родовой общины и в конечном счёте к её преобразованию в общину сельскую, территориальную. Повсеместное распространение рала с полозом и окончательный переход в течение Х в. к паровой системе земледелия устранили необходимость совместного труда всей общины для расчистки и обработки пашни и сделали возможным существование индивидуальных хозяйств. Из общины-кона выделились большие патриархальные семьи («концы»), которые затем сами распались на так называемые неразделённые семьи в составе отца и взрослых (женатых) сыновей. В результате количество поселений в некоторых областях увеличилось в пять раз. На картах археологических исследований около десятка таких групповых селищ и индивидуальных усадеб обыкновенно составляют как бы «гроздь» или «гнездо» поселений. Каждое «гнездо» окружает полоса необжитых земель шириной 20–30 км — своеобразная пограничная территория, отделяющая его от другого «гнезда».

Особым структурным образованием восточнославянской общины, а в определённом смысле и её венцом, были «грады». Большинство из них было, по сути, просто родовыми посёлками, обнесёнными (огороженными — отсюда град) деревянным тыном, земляным валом или тем и другим вместе. Арабский писатель XI в. Аль-Бекри сообщает о славянских градах следующее: «И таким образом строят славяне большую часть своих крепостей: они направляются к лугам, обильным водами и камышом, и обозначают там место круглое или четырёхугольное, смотря по форме, которую желают придать крепости и по величине её. И выкапывают вокруг него ров и выкопанную землю сваливают в вал, укрепивши её досками и сваями наподобие битой земли, покуда стена не дойдёт до желанной высоты. И отмеряется тогда дверь с какой стороны им угодно, а к ней приходят по деревянному мосту». Другой арабский писатель, Гардизи, сообщает, что у славян «есть обычай строить крепости», для чего «несколько человек объединяются». По этому сообщению можно судить о величине славянских «градов». И действительно, по археологическим данным, большинство восточнославянских городищ занимало территорию, на которой мог поместиться крестьянский двор средней руки. Самые крупные — с футбольное поле.
Каждая «земля» обязательно имела на своей территории три типа укреплённых городищ: убежища, административно-хозяйственные центры и святилища.
Наряду с общинными городищами существовали городища княжеские. К ним относились крепости и погосты (места гостьбы — торговли и сбора дани).
Древнерусский город был порождением родоплеменного строя, бесклассовой цивилизации. Поэтому он органически вписывался в родоплеменной строй, нимало не разрушая его; разлагающее влияние города на родовой быт было делом весьма отдалённой перспективы.
Таковы исходные условия государственного строительства на Руси.

Князь и город
Средоточием Русской земли был Киев. Политические отношения князя с «кыянами» в это время осуществлялись в формах, которые были присущи славянам на родоплеменной стадии развития. Мы привыкли к основному принципу современной демократии — разделению властей. Но нет ничего более противного политическому духу древнерусского общества. Властная структура Киевского княжества включала в себя князя (княжеский род), городское вече и городских старейшин. Все члены этой властной триады чувствовали необходимость друг в друге и находились между собой в тесном сотрудничестве.
Несмотря на то что князь «сидел» на киевском столе, Киев отнюдь не был «княжеским» городом. «Кыяне» подчинялись не княжеской администрации, а органам городского самоуправления. Политическая самостоятельность Киева простиралась даже в область межгосударственных отношений. Городские представители («гости») участвовали в заключении договоров с Византией и выступали поручителями его соблюдения, наряду с послами князя.
Киеву принадлежала также чрезвычайно важная роль в военной организации Русской/Киевской земли. В случае надобности горожане выставляли в поле земское ополчение — тысячу, или полк, укомплектованный городскими и сельскими ратниками. Предводительствовал полком тысяцкий, имевший под началом городскую аристократию – сотских, десятских и нарочитых мужей или, как их еще называли, лучших людей. То были потомки родоплеменной знати, старейшины, или старцы градские (людские), которые в мирное время образовывали нечто вроде городской думы, ведавшей всеми делами в Киеве и распоряжавшейся городской казной.
Знатные роды славян пользовались у простого народа совершенно особенным уважением и почтением. Благодаря этому обстоятельству, влияние знатных людей имело вполне самостоятельный источник, независимый ни от князя, ни от веча. Родовая аристократия не состояла на службе у князя и не входила в его дружину. Князь не имел над ней прямой власти, не мог приказывать ей. В тех случаях, когда ему необходимо было заручиться содействием городских старшин, он слал им свои предложения, с поклоном от своего имени, а те, обсудив, принимали их к сведению или отвергали. Не принадлежа к княжеской администрации и служилым людям, городские старшины не были, однако же, и выборными людьми. Их ведущая роль в управлении городом определялась исключительно обычаем, предписывавшим чтить благородное происхождение.

Но если предварительное обсуждение дела было прерогативой знати, то окончательное решение по нему выносило вече. Известный фрагмент Лаврентьевской летописи свидетельствует, что веча на Руси искони были обычным делом: «Новгородци бо изначала, и смолняне, и кыяне, и полочане, и вся власти [волостные, «старшие» города], якож на думу, на веча сходятся…». Вече было архаическим институтом, существовавшим у славян с незапамятных времен. Но в 10 — начале 11 века этот институт находился накануне политического и социального перерождения. Веча из племенных собраний превращались в собрания земские, выступавшие от имени «всех людей земли Русской». Земское вече, однако же, не было полной противоположностью вечу племенному, между ними сохранялись многие родственные черты. Одной из таких черт было чувство социально-политической солидарности, пришедшее на смену чувству племенного единства. Рядовые «кыяне», еще не разделенные с городскими властями четкими сословно-имущественными перегородками, видели в старцах градских выразителей своей воли и своих интересов.
Порядок проведения веча в Х веке, вероятно, мало чем отличался от того, который известен по более поздним источникам. В летописной статье под 1147 г. рассказано о приеме киевлянами послов великого князя Изяслава Мстиславича. Тогда, по зову князя, тысяцкого и митрополита возле церкви Святой Софии собралось «множество народа», «от мала до велика». Князь Владимир Мстиславич во вступительной речи пояснил суть дела и представил властям и народу послов брата. Послы приветствовали князя, митрополита, тысяцкого и «киян», после чего вече согласилось выслушать их: «Молвита, с чим князь прислал».
В славянском Поморье XI–XII вв. народные сходки происходили схожим образом. Вече собиралось в торговые дни на рыночной площади, посередине которой стоял высокий деревянный помост со ступенями, сужавшийся к верху. С него городские старшины и глашатаи говорили перед народом. Торг и вечевые собрания бывали два раза в неделю: один из дней совпадал с христианским воскресеньем. Город тогда наполнялся людьми из окрестных деревень. Сельские общины были представлены на вече главами патриархальных семей. Кончив торг, они оставались на площади, толкуя о чем придется. Важные дела предварительно обсуждались в совете городских старшин, без чего народная сходка считалась мятежом. Но решения старцев и знати не были обязательными для веча, хотя в подавляющем большинстве случаев вече одобряло приговор совещательного собрания.
За выполнением постановлений веча следили очень строго, жестоко карая несогласных. Германский хронист начала 11 века Титмар Мерзебургский сообщает о лютичах, что, «единодушным советом обсуждая все необходимое по своему усмотрению, они соглашаются все в решении дел. Если же кто из находящихся в одной с ними провинции не согласен с общим собранием в решении дела, то его бьют палками; а если он противоречит публично, то или все свое имущество теряет от пожара и грабительства, или в присутствии всех, смотря по значению своему, платит известное количество денег».
В Русской земле решение «столичного» городского веча также обычно безоговорочно поддерживалось «землей»: «…на что же старейшии [города] сдумают, на том же пригороды [сельские округа и «меньшие» города] стануть» – таким утверждением завершается уже цитированный мной фрагмент Лаврентьевской летописи.
Общество не могло позволить себе роскошь дискуссий и оппозиции.
Киевское людие было связано с князем только добровольными обязательствами. «Кыяне» видели в княжеской власти олицетворение своих собственных интересов, участвовали в ее формировании и оказывали на нее прямое влияние. Претензии князя на общественное доверие к его властным прерогативам и согласие на это со стороны общества (города, «земли») закреплялись в ряде публичных процедур, которыми сопровождался обряд вокняжения. Над князем совершался некий чин венчания («глава их [славян] коронуется», — сообщает арабский историк конца 9 — начала 10 века Ибн Русте) и посажения на «отний и дедний» стол. В свою очередь, князь обещал вечу и старцам градским судить и рядить по правде. Далее следовала церемония «прославления» князя народом, т.е. публичного признания законности его власти. Празднество завершалось раздачей даров людям и всенародным пиршеством. Княжеская щедрость символизировала благоволение небес к самому князю и служила залогом процветания всей «земли» и каждого из подданных. На этом этапе общественного развития самовластная и вечевая природы публичной власти еще гармонично сочетались.
Упоминания о соглашениях Киева с князьями почти целиком относятся к XII в. Князю, забывшему "урядить" свои отношения с городом, а уже собравшемуся на войну, бояре напомнили: "…ты ся еси еще с людьми в Киеве не укрепил".
Князь имел также обыкновение советоваться со старцами градскими по важным вопросам. Хрестоматийным примером является летописное «думание» князя Владимира Святославича с «людьми» и «старцами» о земских и военных делах, о суде и проч.
Итак, князь, державшийся несколько в стороне от идущей своим чередом городской жизни, тем не менее не порывал своей связи с городом (а через него со всей «землей»). Напротив, связь эта была крепкая и обоюдная. Обычай не допускал и мысли о самодостаточности какой-либо ипостаси властной триады древнерусского общества – князя, веча, старцев градских. Князь нуждался в «стольном» городе не только потому, что тот был источником материальных и людских ресурсов. Чтобы «княжить и володеть», князь должен был сидеть на «отнем и деднем» златом столе, а последний находился в Киеве. Желание покончить с зависимостью от города было бы равносильно тяге к политическому самоубийству, ибо разрушало саму основу легитимности княжеской власти. Поступив так, князь превратился бы в изгоя.
Но и городская община не могла обойтись без князя, который, собственно, и обеспечивал «стольному» городу его столичный статус, а «земле» – положение самостоятельного и независимого политического образования. Кроме того, княжеская власть была единственным верным залогом земского устроения, «правды». Если старцы градские влияли на городские дела благодаря своим личностным качествам – знатности происхождения, выдающимся способностям и т. д., то князь имел значение для города главным образом как политический принцип, разумеется, в той мере, в какой это допускало патриархальное родоплеменное мышление, не разделявшее строго «господина» и «отца».
В целом же во взаимоотношениях города и князя не было заметно решительного преобладания «монархического» или «республиканско-демократического» начал. Властные отношения в Русской земле предполагали органичное единство двух источников политической власти — князя и общинного самоуправления (веча и старцев градских), которые не могли ни заменить, ни устранить один другого и потому существовали и развивались в непрерывном диалоге друг с другом. Нарушить его могла только случайность: личные амбиции, внешняя угроза, мятеж и т. д. Древнерусская политическая мысль стремилась всячески поддержать и сохранить равновесие между князем и обществом. В 12 столетии мудрый Боян скажет: «Тяжко ти головы, кроме плечю, зло ти телу, кроме головы», тяжело голове без плеч, худо и телу без головы. Политико-государственное мышление может быть названо органическим.
Для проявления душевной щедрости
Сбербанк 2202 2002 9654 1939
Мои книги на ЛитРес
https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/
У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!
Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172
Мой телеграм-канал Истории от историка.

 Особенности и преимущества линейного полиэтилена
Особенности и преимущества линейного полиэтилена  Учения сухопутных войск иранской Армии на западе Ирана
Учения сухопутных войск иранской Армии на западе Ирана  Англичанин живет в центре Лондона в мусорном баке...
Англичанин живет в центре Лондона в мусорном баке...  Наци метр
Наци метр  Взят рубеж в 21 тыс. орудий
Взят рубеж в 21 тыс. орудий 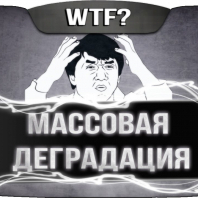 VK-видео победил Ютуб благодаря деградации
VK-видео победил Ютуб благодаря деградации  "У Николы Морского" by nikolai_endegor.
"У Николы Морского" by nikolai_endegor.  Новости Украины
Новости Украины  Немного альтернативной истории...
Немного альтернативной истории... 



