Глазами человека, повидавшего всё
 a_pereswet — 29.01.2023
Однако справедливости ради надо заметить, что в самые первые годы я
эту жизнь в той комнатке, в той квартире, в том доме на
Чернышевского делил с жизнью в других местах. Причём в самой
неблагоприятной пропорции: шесть к одному. Не в пользу родного
дома…
a_pereswet — 29.01.2023
Однако справедливости ради надо заметить, что в самые первые годы я
эту жизнь в той комнатке, в той квартире, в том доме на
Чернышевского делил с жизнью в других местах. Причём в самой
неблагоприятной пропорции: шесть к одному. Не в пользу родного
дома…Объяснение крайне простое. Поскольку родители по мере сил вместе со всем народом также участвовали в коммунистическом строительстве, то меня в положенное время – после окончания декретного отпуска – надо было куда-то девать. А декретный отпуск в те годы был маленький: Указом от 26 марта 1956 года Президиум Верховного Совета СССР установил его продолжительность в 112 календарных дней (56 дней до родов и 56 дней после родов). В октябре того же года добавили такую льготу: Совет Министров СССР предоставил женщинам право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 3 месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.
Ну, это кто мог себе позволить. Отец тогда ещё трудился в Гиредмете за 90 рублей в месяц (на "хрущёвские" деньги, после реформы 1961 года; формально-то – на 900). Троих на эти деньги содержать было невозможно физически, Ну, пусть – двоих: грудной младенец мало в чём нуждается, кроме пелёнок. И двоих – тоже невозможно; кто жил студентом на одну стипендию в 40 рублей, всю жизнь помнит об этом как о подвиге.
А бабушка, по словам матери, почему-то не хотела со мною оставаться. На вопрос почему мать отвечала уклончиво, но по неким глухим отзвукам при расспросах о той поре, можно понять, что были какие-то конфликты. Ну и плюс – орал я сильно: тут уж отец определённо вспоминал, как по ночам таскал меня на руках по Толмачёвским, Старомонетным, Лаврушинским и прочим переулкам, чтобы могли поспать и наши две семьи в одной комнате, и соседние. Дом всё же был маленький, хоть и с толстыми стенами.
Вот тогда, видимо, я пропитался духом старой Москвы. И нежностью к Замоскворечью в особенности…
Так вот. А в ясли в тогдашнем СССР принимали как раз с двухмесячного возраста – по окончании декретного отпуска мамаш. Были бы ясли рядом.
Вот с этим как раз всё было в порядке. Институт атомной энергии ясли для своих сотрудников построил. Если быть точным, то построены они были на деньги его директора Игоря Васильевича Курчатова. На его личные деньги от Сталинских премий, которые он выделил, не дожидаясь череды согласований. Чтобы для людей было, для сотрудников, для детей их. Важно ведь, считал Курчатов, что когда их дети сыты и обихожены, тогда и сотрудники одной семьёю живут и трудятся. Он и детский сад позже так же отстроил, на улице Бирюзова, а потом и на улице Расплетина (тогда, соответственно, 6-я и 4-я улицы Октябрьского поля). И далее из своих премий туда деньги переводил.
Так что ясли рядом были. Вот только… рядом с Институтом. На нынешней улице Рогова, 10, тогда – Клубном переулке. В честь клуба ИАЭ так названного. Который и по сию пору там стоит, только повышен в звании от клуба до Дома учёных. Имени моего любимого А.П. Александрова. Вот эти ясли:

И хотя на картах они до сих пор отображаются как "ясли-сад", на деле там сегодня Детский научно-образовательный технопарк Курчатовского института. И там уже большие детки творят разные технические, химические и прочие чудеса:

Но, кстати, снова к вопросу о кругах сансары. У них, похоже, есть ещё одно свойство – водить нас всю жизнь по одним и тем же, в общем, местам, заставляя вновь и вновь удивляться совпадениям и нежданным сближениям.
Вот взять эти ясли. Можно ли было тогда, в 1958 году подумать, что в 1982 году матери дадут квартиру в рядом стоящем доме? Которого, конечно, в пятидесятых-шестидесятых и в проекте не было. Да, это дом от Курчатовского института, но Институт тогда построил не один дом. И вот теперь, в 93 года, она, выходя на прогулку к Дому учёных, проходит мимо яслей, куда когда-то бегала кормящей мамашей?
Или взять родные Чистые пруды. Ну почему именно в этом районе сосредотачивалось так много моих мест работы, деловых интересов, просто встреч? Вот "Литературка": Костянский переулок, недалеко от 53-й спецшколы, где я учился. "АиФ": Мясницкая улица, в двух шагах от Чистопрудного бульвара и Дворца пионеров, куда я ходил в детстве. Здесь же, в округе, типография, с которой я сотрудничал, когда был главным редактором в издательстве "Интерэксперт". А сколько встреч здесь было!
Большая Никитская, ТАСС – и снова вокруг концентрация памятных мест и интересов. Даже к детскому саду на Расплетина приводила уже давно взрослая жизнь!
Ну, об этом будет ещё речь.
А пока… Пока маме было удобно. Например, можно было выбежать с работы, добежать до ясель… Именно добежать: там от корпуса, где мать работала, до них было больше километра, а Трудовой кодекс СССР, хоть и добёр был к трудящимся и предоставлял на такие нужды перерывы каждые 3 часа, саму продолжительность этого перерыва ограничивал 30 минутами.
В общем, добежать, покормить и обратно к обеспечению атомной мощи страны. А надо было ведь ещё и успеть вернуться…
Проблема была в другом. От Большого Толмачёвского переулка, дом 16 до Площади академика Курчатова, дом 1 надо было тогда дойти до станции метро Новокузнецкая, проехать до станции метро Сокол, пробежать до арки "адмиральского" (строился для Минморфлота) дома, сесть там на круге на автобус №60 и на нём добраться до Клубного переулка.

Вот он, тот "адмиральский" дом и та арка
А по пути вокруг – не просто люди. По пути вокруг – очень много людей. Давки в метро и в автобусах в часы пик были даже не традицией, а непреложной частью бытия. Авторитетно свидетельствую, ибо сам наездился по этому же маршруту. Только с добавкой: это было уже когда я ходил в детский сад, а потому к маршруту добавлялся отрезок на трамвае от Покровских ворот до той же станции метро Новокузнецкая.
На трамвае тоже были давки.
Вот примерно так выглядел наш с мамой путь в детский сад, собранный в одну ленту из разных запомнившихся эпизодов.
Утро раннее: матери на работу надо к восьми, на дорогу требуется не менее часа, плюс от садика дойти до Института (1,2 км), плюс всякие возможные нестыковки – словом, в 6:30 нам надо выкатиться из дома. Что стоит в такое время проснуть, поднять, умыть, одеть, накормить 5-6-летнего ребёнка – знает каждый, кто имел детей. А ещё это всё надо успеть сделать самой. Добавив, естественно, причесон и макияж.
Несмотря на ранне время, трамвай уже полон. Хорошо, если это будет "трёшечка" – она стартует только от метро Кировская, это всего две остановки. Войти можно. Вот "Аннушка" – это, как сегодня сказали бы, "АдЪ и Израиль". Она прётся аж с Трёхгорки, через Пресню, Тишинку, Белорусский вокзал, Палиху, Самотёку, Трубную, и далее по Бульварному. Кругооборот пассажиров происходит, конечно, но народу тогда по коммуналкам вдоль такого маршрута жило тоже много. И на работу всем нужно было примерно к одному времени. Так что когда трамвай №А подходил к Покровским воротам, все стояли теснее, чем кукуруза на полях в самых горячечных снах Никиты Сергеевича.
Добавьте в эту картину младенца, когда матери надо было везти младенца в ясли, – она станет маслом, оная картина.
Но мы втискивались, конечно, куда денешься (это я уже опять про осознанные воспоминания). Особенно, когда с отцом вместе выходили, которому до Новокузнецкой было по пути.
Но один раз (а может, и больше, но помню один) было так тесно, что меня смогли пристроить лишь в кабине вагоновожатого. Хотя это и было, естественно, запрещено. Но там уж пассажиры коллективно просили.
А почему я его запомнил, этот случай, потому, что этот добрый человек – дядечка, кстати, что уже в те времена было редкостью в этой профессии – дал подержаться за руль. Что был справа от него, прямо передо мною.

И я потом всем хвастался в садике, что я! – вёл! – трамвай!
Кстати, недавно тоже хвастался. После пары рюмочек на Новый год.
Только теперь-то я знаю, что это был – стояночный тормоз…
То-то он и не крутился.
Пересадка. Сто тысяч голубей на площади перед метро Новокузнецкая.

В вестибюле – чудо. Интерактивная схема метро. Нажал кнопку возле названия нужной станции – на ней высвечивается ведущий к ней маршрут. Очаровательно, но… редко. Маме некогда, все минутки цокают копытцами. К тому же что там разыскивать? – от Новокузнецкой до Сокола прямой маршрут. Пять остановок, успокойся и вперёд.
Между остановками перегоны длинные. Ещё длиннее они становятся из-за тесноты в вагоне. А летом – ещё и из-за запаха пота из подмышек граждан, держащихся за поручни. Дезодоранты тогда были редкостью, а то и вовсе отсутствовали. Про начало шестидесятых не помню, а вот позже я читал книжку какого-то нашего журналиста-международника из пятидесятых годов – кажется, по фамилии Фиш. Так вот, сидя в Финляндии, он пылко осуждал финнов за пристрастие к этой пакости. Нет бы, вещал он, мыться почаще да почище, в баньку ходить…
В общем, когда жара была на улице – а вагонах роль кондиционеров открытые форточки на окнах играли, - то из метро на Соколе мы вываливались взмыленными и несколько поувядшими. Носами. Хотя, честно говоря, это я сейчас так вспоминаю. А тогда и не осознавал – так, норма бытия…
Дальше бегом мимо пожарной части к остановке автобуса №26. Тут, на круге возле арки, конечная, тут женщина с ребёнком имеет шансы занять сиденье. Мне очень нравилось переднее, прямо у кабины водителя. Там на некоторых – а может, на первых, не знаю – моделях ЗиЛ-158 она не отделялась перегородкой от пассажирского салона, и можно было сидеть прямо за мотором и воображать себя водителем. А чё такого? – трамваем я уже рулил…
Наконец, мы подъезжали к нужной остановке. От неё до детского сада было ещё метров полтораста, и в совсем нежных годах я нередко просился к маме на ручки. Она и сегодня, в 93 года, со смехом вспоминает это: "Мама, а ючки!".

Так тогда выглядела 4-я улица Октябрьского поля, ныне улица Расплетина
Ну, а затем меня сдавали с рук на руки, короткое прощание, долгие слёзы после ухода родного человека и – вливание в дружных коллектив таких же зарёванных оторвышей. А почему зарёванных?
Ответ на этот вопрос можно начать с повторения уже заданного, про картину маслом: а если весь этот анабазис проходить с младенцем на руках? Да по два раза на день?
Каков выход? Верно: недельные ясли. В понедельник завезла, в субботу (была ещё шестидневная рабочая неделя до 1967 года) забрала.
А потом такой же недельный детсад.
|
|
</> |

 5 мифов о приеме цветного лома, которые давно устарели
5 мифов о приеме цветного лома, которые давно устарели  НАШИ ДВОРОВЫЕ КОТЫ
НАШИ ДВОРОВЫЕ КОТЫ  С 1 сентября...
С 1 сентября...  Играют!
Играют!  Александр Дейнека. Гимн жизни
Александр Дейнека. Гимн жизни  Лев Толстой, "вошедший молодой человек" и взрыв газовоза. Арзамасский ужас?
Лев Толстой, "вошедший молодой человек" и взрыв газовоза. Арзамасский ужас?  Radio Telefunken, Гонконг
Radio Telefunken, Гонконг  Преданность
Преданность 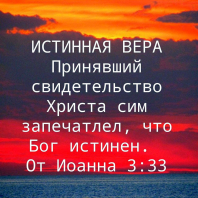 ИИСУС - БОЖЬЕ СПАСЕНИЕ
ИИСУС - БОЖЬЕ СПАСЕНИЕ 



