Еще о «безопасном обществе» и о способах преодоления его недостатков…
 anlazz — 09.11.2016
Говоря о «безопасном обществе», как об особой форме социума, из
которой и вытекает значительное количество современных проблем,
следует понимать главное. А именно - что оно представляет собой не
какое-то «извращение», некий «зигзаг истории», который должен быть
ликвидирован ради того, чтобы можно было развиваться. А наоборот –
является закономерным этапом человеческого развития, вытекающим из
всей предыдущей истории. Поэтому избежать его невозможно – да и не
нужно. Ведь очевидно же, что жить, не опасаясь за свою жизнь,
намного лучше, нежели пребывать в постоянной уверенности, что не
сегодня-завтра тебя могут уничтожить. А именно так, собственно, и
жили люди в течение тысяч лет классового общества. Правда, слово
«уничтожение» никто открыто не употреблял, ив ходу было более
привычное выражение – «судьба». Но смысл был именно таким – любой
человек любого сословия мог в любой момент времени оказаться
убитым, умереть от болезни или, в самом лучшем случае, попасть в
полную нищету. (Для вельмож – в опалу, хотя можно было угодить и на
каторгу.) Впрочем, конечно, что для представителей низших классов
эта вероятность была на порядки выше, нежели для аристократии.
anlazz — 09.11.2016
Говоря о «безопасном обществе», как об особой форме социума, из
которой и вытекает значительное количество современных проблем,
следует понимать главное. А именно - что оно представляет собой не
какое-то «извращение», некий «зигзаг истории», который должен быть
ликвидирован ради того, чтобы можно было развиваться. А наоборот –
является закономерным этапом человеческого развития, вытекающим из
всей предыдущей истории. Поэтому избежать его невозможно – да и не
нужно. Ведь очевидно же, что жить, не опасаясь за свою жизнь,
намного лучше, нежели пребывать в постоянной уверенности, что не
сегодня-завтра тебя могут уничтожить. А именно так, собственно, и
жили люди в течение тысяч лет классового общества. Правда, слово
«уничтожение» никто открыто не употреблял, ив ходу было более
привычное выражение – «судьба». Но смысл был именно таким – любой
человек любого сословия мог в любой момент времени оказаться
убитым, умереть от болезни или, в самом лучшем случае, попасть в
полную нищету. (Для вельмож – в опалу, хотя можно было угодить и на
каторгу.) Впрочем, конечно, что для представителей низших классов
эта вероятность была на порядки выше, нежели для аристократии.Поэтому ликвидация прямой зависимости от всепожирающего фатума явилось, безусловно, одной из самых благих перемен, когда-либо случавшихся с человечеством. Оно не только позволило существенно сократить страдания человеческих существ, в течение тысяч лет обрекавших большую часть их заниматься буквальной борьбой за право жить. Но и позволило существенно увеличить творческий потенциал цивилизации. Ведь очевидно, что все те силы, которые ранее тратились на указанный процесс, теперь могли быть использованы в качестве источника творчества. Что, в свою очередь, позволило разрешить такие вопросы, которые в течение всей предшествующей истории выглядели неразрешимыми. Именно поэтому выступление людей против «безопасного общества» являлось бы невообразимой глупостью, ведущей к ухудшению их собственного положения. (Правда, этот факт не мешает данной глупости распространяться с огромной скоростью, скажем, по Ближнему Востоку или постсоветскому пространству.)
Но, как это всегда и происходит в истории, одновременно указанное благо имело и свою «темную сторону». Ничего удивительного в данном факте нет – страннее было бы, если бы существовало некое «безусловное добро». Это было бы однозначное свидетельство о «внешнем управлении» нашей цивилизацией (как минимум). Но, к счастью - или к сожалению - никаких «внешних управителей», и прочих всемогущих божеств пока на горизонте не наблюдается. А значит, приходится мириться с диалектичностью каждого исторического события, и при каждой победе не надеяться, наконец-то, получить заслуженный отдых. Вместо этого любое достижение просто требует немедленно начинать искать способы нейтрализации создаваемых им проблем. Но для того, чтобы это сделать, данные проблемы нужно, по крайней мере, увидеть. И лишь после этого можно вести речь о возможности дальнейшего развития.
Впрочем, возвращаясь к «безопасному обществу», мы уже разобрали те негативные изменения, которые оно несет. Но тогда возникает вопрос: если этот тип социума, с одной стороны, является необходимым этапом истории, а с другой – приводит к необратимым изменениям социума, способствующим, как уже не раз говорилось, к уменьшению коллективистских отношений (вплоть до полного исчезновения их), то что тогда следует делать? Ведь понятно, что исчезновение коллективизма автоматически означает торжество конкуренции и неизбежный переход социума обратно к «опасному миру». (Ибо именно последний представляет собой наиболее полную реализацию истинной сути конкуренции.) Получается, что «безопасное общество» отрицает себя само. Впрочем, подобная ситуация полностью логична для сложных систем, подчиняющихся правилам диалектики – а значит, указанное состояние вовсе не значит катастрофы. Напротив, именно оно и обеспечивает потенциал для дальнейшего развития. Невозможно только одно – остановка. Как уже говорилось выше, построив «безопасное общество», следует первым делом предусмотреть механизмы, способные устранить его системные недостатки.
И, прежде всего, необходимо убрать указанную «непотребность» в коллективизме. На самом деле, ничего особо сложного тут нет: если человек «безопасного общества» не имеет потребности в объединении с себе подобными (поскольку ему и так хорошо), то ему надо создать подобную потребность. В этом нет ничего необычного и невозможного – ведь помимо хорошо знакомого «взаимодействия для выживания», существуют и иные виды «принуждения к контактам». К примеру, в качестве способа реализации совместной трудовой деятельности. Точнее, осознанной совместной трудовой деятельности – поскольку неосознанной можно прекрасно заниматься, вообще ни с кем не устанавливая тесных отношений, чем и занимается подавляющее большинство наших современников. А вот осознанная работа требует более плотных контактов. Поэтому большинство научных и технических коллективов, реализующих сложные проекты, как правило, представляют собой, по крайней мере, единомышленников. Это хорошо заметно даже по капиталистическим странам – другое дело, что там эти «творящие коллективы» неизбежно превращаются в пресловутых «пауков в банке». Это наступает тогда, когда от создания технических конструкций дело переходит к управлению финансовыми активами. (История фирмы Apple является очень хорошим примером подобного.) Однако до тех пор, пока этого не произошло, подобные коллективы очень хорошо иллюстрируют тезис об «универсальности» подобного подхода, и его независимости от культурного контекста.
Что же касается СССР, то тут подобные коллективы, превращающиеся в товарищества (в смысле обретения их членами товарищеского духа) встречались повсеместно. По сути, именно подобная форма взаимоотношений описана у братьев Стругацких в их знаменитом произведении «Понедельник начинается в субботу», и является одним из базисных конструкций СССР, непосредственно связанных с переходом к миру неотчужденного труда. Правда, именно с этими конструктами связана и одна реальная проблема. А именно – указанная коллективность, как правило, ограничивалась предметом труда. Т.е., люди, находясь на работе, реально могли демонстрировать удивительный уровень межличностных коммуникаций, создавая действительно уникальные вещи с крайне низкими затратами. Но выходя за ее пределы, невольно обращались к более привычным «обывательским практикам».
Более того, как раз это деление «НИИ – обычная жизнь», в конечном итоге оказывало на участников подобных коллективов разобщающее вне стен своих «институтов». Оно, совершенно закономерно, вело к уверенности, что «настоящие люди» есть только там, где есть «настоящая жизнь», т.е., там, где есть неотчужденный труд. Тут действовало два эффекта: во-первых, человек, работающий в «высококоммуникативной среде», банально удовлетворял там все свои потребности в коммуникации. И нужды с установлению последней уже не имел. А во-вторых, у него вырабатывались достаточно специфические коммуникативные модели, «несовместимые» с коммуникативными моделями «окружения». Иначе говоря, увлеченный своим делом МНС или инженер испытывал трудности с пониманием, скажем, соседей. Нет, конечно, это разделение было достаточно слабым, намного слабее того, что происходит в разделенном обществе классового типа – к примеру, сейчас. Но с учетом «первого фактора», оно оказывалось критическим в плане того, что данный субъект дистанцировался от окружающих. Даже если сам он не желал этого.
Собственно, указанные проблемы прекрасно показывают явную недостаточность подобного «частичного» установления «зон коммунизма» для полного изменения типа общества. Да, с одной стороны, они позволяли советскому обществу легко решать многие сложнейшие научные и технические задачи. Но с другой – оказывались опасными в плане сохранения общественного единства, создавая опасную разницу в образе мышления между «людьми Понедельника» и всеми остальными. Впрочем, это касается не только указанных работников всевозможных НИИ и КБ – в позднесоветское время вообще стала актуальной разница в уровне отчуждения труда в самых разных местах работы. Не отраслях даже, а на конкретных предприятиях: где-то, в случае относительно низкого отчуждения возникали коммунистические отношения. А где-то, где этот уровень оставался относительно высок, все сильнее нарастали собственнические представления. (Выражающиеся, например, в стремлении вынести с предприятия все, что можно.)
Таким образом, самая серьезная проблема позднесоветского общества состояло в том, что существующие «высококоммуникативные» коллективы оказывались локальными, не способными охватить все общество. Собственно, можно сказать, что они не смогли стать полноценными локусами будущего мира - как это не печально звучит. А ведь, судя по всему, именно подобный механизм – т.е., образование в «недрах» «безопасного общества» «высококоммуникативных» социальных структур, и «разворот» их на всех остальных – и является наиболее вероятным способом перехода к социуму «низкоотчужденного типа». Надеяться на то, что последний может быть получен «целиком и сразу», смешно и бессмысленно, просто исходя из логики развития революционных процессов. А значит, проблема создания «саморазворачивающихся зон легкой коммуникации» и распространение их на все остальное «безопасное общество» требует обязательного решения.
Впрочем, эта задача, скорее всего, имеет решение. Поскольку совершенно очевидно, что переход от локальных коллективов к более крупным социосистемам – явление закономерное. Ведь еще недавно само предположение о возможности существования крупных коллективов единомышленников выглядело невозможным. Другое дело, что для этого требуется очевидная потребность в подобном действии: ведь те же «понедельничные» НИИ возникли не просто так, а как ответ на необходимость быстрого развертывания современного производства. Причем, подобный опыт сформировался еще до Второй Мировой войны. Скажем, те же авиационные КБ или иные организации, занимающиеся «прорывной тематикой», по сути, представляли собой организации подобного типа. Другое дело, что в это время численность подобных коллективов была мала, а в большей части общества господствовали иные, более традиционные способы «возбуждения солидарности». И лишь в послевоенное время, после начала массового освоения высокотехнологичной продукции, наступило то самое время «Понедельника, который начинается в субботу». (Но, скажем, члены ГИРД начала 1930 годов ничем особо не отличались от своих коллег из 1960 года.)
Таким образом, можно сказать, что причиной, позволяющей бороться с всеразрушающей аномией «безопасного общества», выступает осознание требований повышения уровня развития. В этом случае обеспечивается потребность в максимальной коммуникационной связности, необходимое для высокой инновационности общества. Именно с признанием этой необходимости, во многом, и было связано успешное строительство СССР в 1920-1960 годы. И, к сожалению, с утратой ее – провал и последующая гибель страны в позднесоветское время. Отсюда, кстати, становится понятным, почему т.н. «застой» – т.е., стабильное, но не ориентированное на рост, существование – представляет собой однозначный путь к гибели для любого проявления «безопасного общества». На самом деле, это крайне неочевидный момент – общество «опасное», к примеру, прекрасно существует в условиях «застоя». Правда, все равно время этого существования конечно – но несравненно более длительное, нежели «время жизни» «безопасного общества». Поэтому именно СССР и погиб первым – т.к., в нем «безопасность» была доведена до предела.
Впрочем, подробно разбирать действия, приведшие к гибели СССР, а равно и те варианты, которые могли бы привести его к коммунизму, надо отдельно. Пока же можно только отметить, что, как говорилось выше, указанная дилемма: или коммунизм, или гибель – была неизбежна. Сохранить столь приятный для многих Советский Союз периода «безопасного общества», т.е., «застоя» - добрый, спокойный и сытый – было невозможно. Поэтому, как бы приятен не был данный период, как бы он не казался «дружественным» к человеку, стоит понимать, что это – не что иное, как первый шаг к гибели. И одновременно, стоит понимать, что указанный переход от «локальных высококоммуникативных социумов», к глобальному подобному социуму, «не случившийся» в советской истории, является неизбежным и необходимым этапом человеческой истории. Который рано или поздно, но придется пройти. Причем, сейчас, зная ошибки прошлого и понимая закономерности развития общества «советского типа», мы можем намного увеличить вероятность подобного перехода по сравнению с тем, что было ранее.
Но это уже совершенно иная тема, о которой следует говорить отдельно…

|
|
</> |

 Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники
Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники  Историческое фото
Историческое фото 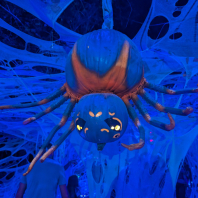 Pumpkin night
Pumpkin night  Владимиров И.А., Продразверстка (реквизиция).
Владимиров И.А., Продразверстка (реквизиция).  ПРЕМЬЕРА клипа ЗНАКИ СУДЬБЫ
ПРЕМЬЕРА клипа ЗНАКИ СУДЬБЫ  Без названия
Без названия  Без цензуры / Redacted / 2007
Без цензуры / Redacted / 2007  Послепоходный Берн
Послепоходный Берн  Украинчики чет приуныли...
Украинчики чет приуныли... 



