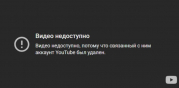Эпоха дворцовых переворотов. Часть 3. Первый штурм Зимнего дворца
 sergeytsvetkov — 05.10.2023
sergeytsvetkov — 05.10.2023
Накануне своей смерти (17 октября 1740 года) Анна назначила своим преемником Иоанна VI Антоновича, сына своей племянницы Анны Леопольдовны и её мужа герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Регентом при двухмесячном ребёнке был сделан Бирон. Императорская милость смутила умного временщика, побаивавшегося столь открытого надругательства над национальной честью. «Небось», — ободрила его умирающая императрица, привыкшая за десятилетие к русской безропотности. Польский посол выразил французскому послу опасение, как бы русские не сделали теперь с немцами того же, что они сделали с поляками при Лжедмитрии. «Не беспокойтесь, — возразил тот, — тогда у них не было гвардии».

Но Бирон в своих сомнениях оказался проницательнее: на этот раз первой зашумела именно гвардия. Офицеры громко плакались на то, что регентство дали Бирону, а не родителям императора, солдаты же бранили офицеров, зачем не начинают. Тайная канцелярия находилась в каком-то замешательстве и не пресекала толков. На Васильевском острове капитан Бровцын, собрав толпу солдат, горевал с ними о том, что регентом назначен Бирон. Кабинет-министр Бестужев-Рюмин, ставленник Бирона, увидев беспорядок, погнался с обнажённой шпагой за Бровцыным, который едва успел укрыться в доме фельдмаршала Миниха. Расстановка сил обозначилась, но честолюбивый фельдмаршал превосходно выдержал паузу. Пообедав и дружески просидев вечер 8 ноября 1740 года у регента, Миних ночью с дворцовыми караульными офицерами и солдатами Преображенского полка, командиром которого состоял, арестовал Бирона в постели. Все участники этой сцены были вне себя: кто от возбуждения и радости, кто от изумления и страха. Солдаты порядком поколотили «курляндца» и, засунув ему в рот носовой платок, завернули в одеяло и снесли в караульню, оттуда в накинутой поверх ночного белья солдатской шинели отвезли в Зимний дворец, а затем отправили с семейством в Шлиссельбург. Анна Леопольдовна, мать императора, провозгласила себя регентшей.

Началась полная неразбериха, продолжавшаяся около года. Супруг Анны, произведённый в генералиссимусы русских войск, никак не мог решить, много это или мало, склоняясь всё-таки к тому, что мало. Сама Анна Леопольдовна целыми днями просиживала в своей комнате неодетая и непричёсанная, не в силах придумать, с чего начать своё правление.
Немцы грызли горло друг другу, и Миних должен был уступить Остерману. Рядовые чины не стеснялись иметь политические убеждения. Регентство и немцы, связавшись в одно в народном сознании, сделались одинаково ненавистны. Толковали о цесаревне Елизавете: «А не обидно ли? Вот чего император Пётр I в Российской империи заслужил: коронованного отца дочь государыня-цесаревна отставлена». Были такие, которые отказывались присягать новому императору: «Не хочу — я верую Елизавет-Петровне».

Дочь Петра была настроена весьма решительно. Переворот был подготовлен лейб-медиком Лестоком. В ночь на 25 ноября 1741 года, горячо помолившись богу и дав обет в случае удачи во всё царствование не подписывать смертных приговоров, Елизавета, в кирасе, с крестом в руке вместо копья, явилась новой Палладой в казарме Преображенского полка, где, напомнив уже подготовленным гренадёрам, чья она дочь, стала на колени и, показывая крест тоже коленопреклонённым гренадёрам, сказала:
— Клянусь умереть за вас; клянётесь ли вы умереть за меня?
Гвардия ответила утвердительным рёвом и, увлекаемая Елизаветой, устремилась к Зимнему дворцу. Никакого сопротивления не было. Елизавета вошла в спальню Анны Леопольдовны и разбудила её словами: «Пора вставать, сестрица!» — «Как, это вы, сударыня?» — спросила Анна и была арестована самой цесаревной, которая, расцеловав свергаемого ребёнка-императора, отвезла обоих во дворец, откуда они были отправлены в Ригу. Завёрнутого солдатами в одеяло герцога Ульриха отвезли вслед за его супругой. Переворот сопровождался неистовыми патриотическими выходками, с разгромом немецких лавок и домов и призывами к новой Варфоломеевской ночи. Порядочно помяли при аресте даже Миниха с Остерманом. Гвардия требовала поголовного изгнания немцев за границу.
Несмотря на морозную ночь, улицы Петербурга были заполнены ликующим народом. Все высыпали на улицу праздновать свержение немецкого засилья. Вскоре увидели и доказательства желаемых перемен. Все видные деятели предыдущего царствования, сплошь немцы, были отданы под суд. При дворе, в управлении, в дипломатии на первые места выдвигались русские люди. Гвардия, и в особенности Преображенский полк, была щедро награждена.

Императрица Елизавета Петровна царствовала почти ровно 20 лет — по 25 декабря 1761 года. Царствование её прошло не без славы и, что ещё важнее — не без пользы. Многими своими привлекательными чертами эта эпоха была обязана личным качествам императрицы.
Елизавета принадлежала к тому поколению русских людей, которое воспиталось как бы между двумя культурными течениями: новыми европейскими веяниями и преданиями благочестивой старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток: отстояв в церкви вечерню, Елизавета ехала на бал, а с бала поспевала на заутреню. Как послушная дочь своего духовника отца Дубянского, она строго соблюдала все посты и церковные обряды, а как ученица французского танцмейстера Рамбура была лучшей при дворе исполнительницей менуэта и русской пляски. Обстоятельного воспитания и образования Елизавета, впрочем, не получила, вела довольно безалаберную жизнь, и, хотя была ласкова и проста в обращении, легко выходила из себя и тогда бранилась на сенаторов самыми последними словами, а фрейлинам доставались и пощёчины. Вместе с тем она была мечтательна и однажды в очарованном забытье вывела на деловой бумаге не свою подпись, а почему-то звучавшие в её голове слова: «Пламень огн…» — может быть, слова из какого-нибудь популярного тогда романса или оперной арии.
Елизавета преклонялась перед памятью своего великого отца, от которого унаследовала его энергию: могла за двое суток (вместо обычных семи) домчаться от Петербурга до Москвы.

Мирная и беззаботная по складу своего характера, она, однако же, была принуждена воевать чуть ли не половину своего царствования. И делала это не без блеска, побеждая первого стратега того времени прусского короля Фридриха II Великого. Со своей 300-тысячной армией Елизавета легко могла стать вершительницей судеб Европы, но ей было так мало дела до европейского далека, что она до конца жизни пребывала в уверенности, что в Англию можно проехать сухим путём. Погодите смеяться: круглым неучем Елизавета отнюдь не была и к науке относилась с почтением. Именно ей Россия обязана основанием первого университета — Московского.
Впрочем, назвать Елизавету государственным человеком нельзя. Политике она отдавала час, а потехе — время. Ее министры иной раз по полугоду терпеливо дожидались удобного момента, чтобы склонить ее подписать указ или письмо к иностранным монархам.
Зато к придворным праздникам Елизавета подходила с чрезвычайной серьёзностью. Выбирая наряд для очередного бала или маскарада, она несколько часов кряду примеряла разные платья. И было от чего впасть в замешательство! Ее пристрастие к нарядам выходило за пределы разумного. Она оставила после себя в гардеробе больше 15 тысяч платьев и два сундука шёлковых чулок. Этого хватило на полвека, чтобы обеспечить костюмами все придворные спектакли и балеты!
Больше всего на свете Елизавета любила веселье и роскошь. Крупная, но вместе с тем стройная, с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она знала, что ей особенно идёт мужской костюм и любила являться в нем на маскарады без масок, куда мужчины должны были приезжать в обширных юбках и полном женском уборе. На таком маскараде прекрасно выглядела лишь сама императрица. Она казалась ещё красивее, окружённая толпой трансвеститов поневоле. Даже своего морганатического мужа Алексея Разумовского она выбрала из придворных певчих.
Иногда Елизавета Петровна чудила и самодурствовала напропалую. Обычно она зачёсывала волосы назад и перевязывала их наверху длинной розовой лентой. Эта причёска ей очень шла, и в 1748 году был даже издан именной указ о запрещении делать такие причёски, какие носила Ее величество. А в один прекрасный день Елизавета издала указ, повелевающий всем придворным дамам подстричься наголо, и выдала всем «чёрные взлохмоченные парики», чтобы носили, пока не отрастут свои волосы. Причиной появления приказа послужило то, что императрица не смогла удалить пудру со своих волос и решила выкрасить их в чёрный цвет. Однако это не помогло и ей пришлось состричь волосы полностью и носить чёрный парик.
Свою жизнь Елизавета стремилась превратить в волшебную сказку. Спектакли, музыкальные вечера, увеселительные поездки, куртаги, балы тянулись при дворе нескончаемой вереницей. Но, по сути, Елизавета жила в обстановке золочёной нищеты. Она оставила после себя кучу неоплаченных счетов и недостроенный Зимний дворец, поглотивший с 1755 по 1765 год миллионы казённых рублей. Доходило до того, что французские новомодные магазины иногда отказывались отпускать свои товары ко двору в кредит.

Любители повеселиться часто бывают чёрствыми людьми. Елизавета была не из таких. Перед захватом престола в 1741 года она дала обет в случае успеха никого не казнить и сдержала слово, отклонив в 1754 году уже одобренное Сенатом уголовное Уложение с изысканными видами смертной казни. Фактически при ней смертная казнь в России была отменена, и последующие государи в основном держались этого гуманного правила. Говоря словами Ключевского, Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII века, которую по русскому обычаю побранивали при жизни и дружно оплакали после смерти.
Свержение иноземцев и ласка к русским людям обусловили прочность и популярность нового царствования, чьим лозунгом стала верность традициям Петра Великого, систематическое покровительству всему национальному и гуманность.
Тотчас по вступлении на престол Елизавета уничтожила Кабинет, восстановила Сенат в том составе и значении, какие он имел при Петре, и высказала желание возвратить всю администрацию в те формы, какие установил Пётр Великий. Но поскольку, как известно, нельзя дважды войти в одну реку, елизаветинский Сенат и прочие учреждения все же не стали точными копиями органов петровской администрации. Елизавета управляла государством при помощи приближенных лиц, фаворитов и любимцев, которых она не контролировала и которыми не руководила. Таким образом эти фавориты и любимцы, собранные в Сенате, не встречали систематического надзора со стороны государя, как это было при Петре.

Из всех деятелей той эпохи самым близким к императрице человеком был Алексей Григорьевич Разумовский. По происхождению он был бедным украинским казачонком, который пас деревенское стадо, но за свой прекрасный голос был взят в придворные певчие и обратил на себя внимание Елизаветы. Императрица привязалась к Разумовскому так сильно, что по преданию тайно обвенчалась с ним. До самой её смерти Разумовский оставался одним из самых влиятельных людей России. Он стал кавалером всех русских орденов, генерал-фельдмаршалом и по просьбе Елизаветы был возведён в графы Римской империи. По характеру Разумовский был прям и очень властен, но вместе с тем благодушен и ленив. Он мало влиял на управление, постоянно уклоняясь от правительственных дел, хотя и успел сделать кое-что доброе как для России, так и для родной Украины. В преданиях русского двора он остался замечательным человеком, а в истории государства — довольно незаметной личностью. То же можно сказать про его брата Кирилла Разумовского, для которого Елизавета восстановила украинское гетманство, уничтоженное при Анне Иоанновне.

Гораздо более Разумовских влияли на дела братья Шуваловы. Старший Пётр Иванович, занимая многие важные государственные посты, имел крайнее честолюбие и стремление к наживе. Он весьма деятельно проводил экономические нововведения, которые шли во вред государству, но зато обогащали его карман. При дворе он крепко держался благодаря влиянию жены, Мавры Егоровны, ближайшей фрейлины Елизаветы. Могущественный, злопамятный и мстительный, Пётр Шувалов наводил страх на всех, и только Алексей Разумовский, говорят, безбоязненно и безнаказанно бивал его иногда батожьём под весёлую руку на охоте.

Совершенную противоположность брату представлял Иван Шувалов, человек образованный, гуманный, мягкий, можно сказать, без единого пятна на совести. Его всегда видели с книжкой в руках. Он учился из любви к знаниям, и эти учёные занятия сделали его отцом-основателем русского просвещения. Иван Иванович поддерживал русскую науку, состоял в близких отношениях с Ломоносовым, на пару с которым основал Московский университет с двумя гимназиями при нем. По своим наклонностям Иван Шувалов не стремился к политической и государственной деятельности, предпочитая оставаться меценатом и куратором университета. Однако его перу принадлежит замечательное «Рассуждение о сбережении российского народа» — труд, к сожалению, до сих пор не востребованный нашими правителями.

Наконец, упомянем и канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, который с 1742 по 1757-й год руководил русской внешней политикой (чтобы вызвать в вашей памяти знакомый образ, напомню, что в «Гардемаринах» Бестужева сыграл Евстигнеев-старший). Это был человек на редкость умный и способный, отлично образованный и практик по натуре. Моральные его качества менее привлекательны. Бестужев не брезговал подарками от иностранных послов, хотя, следует отметить, что подкупить его было невозможно — он всегда оставался русским патриотом, ставившим интересы Отечества на первое место. Заслуги Бестужева на дипломатическом поприще неоспоримы — после позорных дипломатических провалов правительства Анны Иоанновны он сумел вернуть России подобающее положение в европейской политике. Минусом его дипломатии было то, что Бестужев чересчур близко к сердцу воспринимал европейские заварушки и пытался влиять на Европу больше и сильнее, чем того требовал здоровый национальный эгоизм.
В XVIII веке мирные годы были в России всего лишь кратковременными передышками между войнами, которые длились годами, а порой и десятилетиями. В царствование Елизаветы русская армия разгромила очередного «непобедимого» противника.

В 40-х годах XVIII столетия возмутителем спокойствия в Европе оказалась стремительно мужавшая Пруссия. Её молодой король Фридрих II получил от предыдущих поколений Гогенцоллернов дисциплинированных подданных, отлично налаженную налоговую систему и великолепно вымуштрованную армию — словом, все необходимое для агрессивной политики. С первых дней своего царствования он начал озираться по сторонам в поисках, что где плохо лежит. Его мало интересовал повод для войны. «Нравится ли тебе какая-то страна, так захвати её, если имеешь для этого средства, — откровенничал Фридрих. — Потом всегда найдёшь историка, который докажет справедливость твоей битвы, и юриста, который обоснует твои требования».
В 1747 году Фридрих вероломно напал на Австрию, оттяпав у неё изрядный кусок земли и блеснув полководческим талантом. Теперь его армия считалась образцовой, ему подражали. В европейский концерт был добавлен прусский барабан, весьма досаждавший ушам соседей. К тому же, считая себя учеником Вольтера, Фридрих имел слабость писать стишки и эпиграммы. О женщинах он высказывался так, что они готовы были растерзать его, а вся Европа тогда управлялась женщинами. Таким образом союз европейских держав против Пруссии получал самую надёжную основу — личную ненависть к её королю.

В 1756 году разразилась новая война, в которой на Фридриха ополчились все женские страны Европы — Франция, где всем заправляла маркиза де Помпадур, Австрия, управляемая императрицей Марией-Терезией, и Россия, возглавляемая Елизаветой Петровной. Над 5-миллионным королевством Фридриха нависла почти вся континентальная Европа с почти 100-миллионным населением. Однако Фридрих целых три года блестяще отражал все нападения, до тех пор, пока 1 августа 1759 год не повстречался у деревни Кунерсдорф с русской армией под началом генерала Салтыкова. Сражение открылось сокрушительной атакой пруссаков на наш левый фланг, который был совершенно уничтожен. Не дожидаясь конца боя, Фридрих отправил в Берлин гонца с вестью о полной победе. А спустя несколько часов вслед первой королевской записке полетела вторая, куда более грустная. «Я несчастлив, что ещё жив, — писал Фридрих своим министрам. — От армии в 48 тысяч человек у меня не остаётся и трех тысяч. Когда я пишу это, все бежит и у меня нет больше власти над этими людьми. Сказать по правде, я считаю все потерянным». Что же случилось? А то, что русские, лишившись одного фланга, не только стойко выдержали все последующие атаки образцовой прусской армии, но и впервые в этой войне атаковали сами, обратив в бегство сначала непревзойдённую конницу короля, а потом и его непобедимых гренадёров. В следующем году русские войска заняли Кёнигсберг и Берлин — первый, но отнюдь не в последний раз в истории. Кстати, военным губернатором оккупированной части Пруссии был назначен Василий Иванович Суворов — батюшка великого полководца, который участвовал в этой войне в чине подполковника.
«Только судьба может спасти меня из положения, в котором я нахожусь», — признавался Фридрих. И судьба в самом деле не покинула своего любимца. 25 декабря 1761 года в Петербурге внезапно скончалась Елизавета Петровна. Наследник российского престола Пётр III поверг русский двор (а потом и всю Европу) в ужас тем, что, выскочив из-за стола со стаканом вина в руке, пал на колени перед портретом прусского короля с криком: «Любезный брат, мы покорим с тобой всю Вселенную!»
В России очередной раз круто менялся политический курс.
Продолжение следует
Для проявления душевной щедрости
Сбербанк 2202 2002 9654 1939
Мои книги на ЛитРес
https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/
Вы можете заказать у меня книгу с автографом.
Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!


«Последняя война Российской империи» (описание)
Заказы принимаю на мой мейл [email protected]

ВКонтакте https://vk.com/id301377172
Мой телеграм-канал Истории от историка.
|
|
</> |

 Как выбрать между имплантацией, протезированием и коронками для восстановления улыбки
Как выбрать между имплантацией, протезированием и коронками для восстановления улыбки  Две сказки от классика
Две сказки от классика  "Боевой" француз, который не смог
"Боевой" француз, который не смог  89 лет Биллу Уаймену
89 лет Биллу Уаймену  Цитата
Цитата  Реализм. Медсестры.
Реализм. Медсестры.  Субботние фото для души. Отражения
Субботние фото для души. Отражения  Как открывали новый завод «Северсталь Стальные Решения» в Орле
Как открывали новый завод «Северсталь Стальные Решения» в Орле  Новинки блошиного рынка на Удельной
Новинки блошиного рынка на Удельной