20 марта 1943-го года
 vazart — 20.03.2023
из дневников
vazart — 20.03.2023
из дневниковАлександр Витковский, электромонтажник, 32 года, командир роты связи, Украина, Луганская область:
20 марта. Село Нижний Нагольчик.
Под утро сменили часть, уходящую на отдых.
Село приютилось возле крутой горы, почти со всех сторон прикрыто холмами. Население эвакуировано. Остались лишь собаки дворняжки.
Совершенствуем оборону — глубже зарываемся, делаем ходы сообщения, улучшаем окопы, саперы минируют проходы и танкодоступные места, набрасывают ерши. Обе стороны особой активности не проявляют. Средние и тяжелые снаряды падают всюду. Местность закрытая, ходить можно и днем.
Всеволод Вишневский, писатель, 42 года, политработник, Ленинград:
20 марта.
Немцы перенесли штаб Восточного фронта из Смоленска в Кенигсберг.
Утром отправил в «Ленинградскую правду» большую статью о фильме «Сталинград». Дал вариант для «КБФ».
Работал над пьесой. Впечатления последних дней несколько сбивают... Мысли идут по другим направлениям.
Был Дзиган, просит хоть «план сценария, побыстрее»... Все это несерьезно, — нужна глубокая работа и время.
Говорят, что наши оставили Белгород.
Вечером опять работал над пьесой, но как сбивают!
Воздушная тревога. Вышел в сад, — вспышки зенитного огня, луна, звезды, прожекторы. Глухое урчание немецких одиночных самолетов.
На фортах Кронштадта ждут воздушных налетов, минирования фарватеров... Замполит Суворов считает, что война кончится через два года.
Опять воздушная тревога...
Проснулся от воздушной тревоги... Под утро сон: скала, отвесный обрыв, стреляют в затылок... Кого-то тащат и бросают, сняв шинель и сапоги, в поток. (Реакция на приезд Дзигана!)
Зиновий Лившиц, инженер, 34 года, Ленинград:
20 марта.
Побывал в филармонии на концерте пианиста Я. Зака и скрипача Д. Ойстраха. Белый колонный зал по-прежнему строен и красив. На балконе ни души, партер заполен на три четверти. Холодновато. Публика сидит в верхней одежде. Много военных. Моряки щеголяют осанкой и золотом погон, с любопытством осматривают друг друга. Зак играл превосходно.
Во втором отделении выступил Ойстрах. Зал устроил ему бурную овацию по случаю присуждения Сталинской премии. Два раза музыкант сыграл на бис. Во время исполнения третьей пьесы послышалась нарастающая пальба. Грохот нарастал, и в зале возникло минутное замешательство. Публика стала отвлекаться, но музыкант как ни в чем не бывало продолжал играть. И только чуть улыбаясь следил за публикой. Стрельба шла вовсю. Стекла окон дрожали. Ойстрах, видя, [что] слушатели не покидают своих мест, продолжал исполнение. Лицо музыканта вновь приняло сосредоточенное выражение. Не обращая внимания на обстрел, скрипач закончил свое выступление.
Публика горячо приветствовала мужественного скрипача. Только когда смолкли аплодисменты, ведущий концерта смог уведомить собравшихся о том, что в городе объявлена воздушная тревога, и предложил отправиться в бомбоубежище. Но никто туда не пошел, а под сильным обстрелом все разбрелись по домам. Трамваи остановились, пришлось добираться до дома пешком. По дороге часто прятался в подворотни — кругом сыпались осколки. Небо было испещрено лучами прожекторов. Все грохотало и рвалось. Так закончился мой культпоход в филармонию.
Всеволод Иванов, писатель, сценарист, 49 лет, Москва:
20 марта. Суббота.
Писал пьесу. В черновике — окончил.
Опубликованы Сталинские премии. Нельзя сказать, что кого-то пропустили или обидели. И можно порадоваться за Петра Петровича Кончаловского и Леонида Леонова, которых стоит наградить. Признаться, я ожидал премию за «Александра Пархоменко» — не мне, конечно, мне, как говорится, «надо вещи складывать, если не помру подобру-поздорову», а хотя бы Хвыле, Лукову, Богословскому. Но, видимо, от меня идет такой тухлый запах, что и остальным тошно.
Чтобы немножко развлечься — согласился выступить на вечере командиров школы снайперов. Школа за городом, возле Дворца Шереметева. Холодное здание, ходят командиры и курсанты, которым до тебя нет никакого дела. Вера Инбер, рассказывающая о том, как удивителен Ленинград — огороды, граммофончики; налет кончается, раскрываются окна и опять граммофончики. Худенькая, старенькая, с тоненькими лапками и на глазах слезы, когда она говорит о граммофончиках. Татарин — поэт, ефрейтор, с гвардейским значком. Служит при «Иване Грозном», как он называет эти минометные снаряды. Едет на Западный фронт. Осип Колычев, лицо грузное, на одесском жаргоне читающий стихи, в которых цитируется Шевченко. Какая-то черненькая женщина, с золотыми погонами, лейтенант. Начальник кафедры литературы при какой-то академии, глупый, небритый мужчина, лет сорока, в засаленных ватных штанах и валенках (в эту теплынь-то!). Что-то орал начальник кафедры; Вера Инбер читала, думая, что она похожа на Пушкина. Холодно. На улице орут песни солдаты. Часовой, неизвестно для чего, стоит в коридоре. И вся зала в золотых погонах... Никого из нас не знают. Накормили обедом, дали по 100 грамм водки, и мы уехали. А на полях уже снег почти стаял, деревья лиловые... словно новое издание А.П. Чехова — и поле, и люди.
Рассказы таниного приятеля, художника, работающего во фронтовой газете. — Ведут пленных. Лейтенант скучный, усталый. Художник говорит: «Давай расстреляем!» Лейтенант оживился: «Выбирай». Пленные понимают, закрывают лица руками. Художник: «Я пошутил». Лейтенант вроде обиделся: «Нет, чего же — выбирай». Долго не могут взять высоты. Усталые, злые. Приходит политрук, выступил, читает: «Англичане и американцы высадились во Франции и идут на Берлин». Красноармейцы закричали «Ура» и бросились на высоту. Взяли. Тогда им сказали, что все это чепуха, политрук «попробовал воодушевить». Брань по адресу и союзников, и политрука, и кой-кого подальше. Политрука расстреляли. Часть расформировали. Красноармеец ведет пленного. Мины. Осколком ранило красноармейца в голову. Пленный показывает: «Развяжи, я тебя перевяжу». — «Ну что же. Все равно погибать, а тут еще есть надежда!..» Развязал. Немец перевязал красноармейца, взвалил его к себе на спину и понес в часть. Принес. Красноармеец кричит со спины немца: «Товарищ командир, я пленного привел».
Завтра два месяца, как я отправил письмо в ЦК по поводу моего романа.
Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой, 18 лет, Ташкент
20 марта.
Сегодня, в общем, — довольно удачный день. Получил 400 г масла хлопкового в распреде, получил карточку в магазинчик Наркомнроса, разовые бесплатные талоны на обеды в детской столовой. В магазинчике получил 300 г масла топленого и 300 г рыбы, которую продал за 20 р., и съел пирожок и два пряника. Т.к. сегодня, как я и предполагал, молочник лепешки не принес, то утром пришлось потратиться на булку и 3 бублика — 50 р. Вообще денег ни хрена не осталось, кроме 5 р. Сейчас около 10 вечера, и несмотря на то, что в течение дня я съел 1 венскую булочку, 3 бублика, из коих 2 с топленым маслом, 2 пряника, пирожок с рисом, пирожок с картошкой, тарелку «супа» с лапшой, тарелку мучной каши (в столовой детской), две тарелки супа с рисом, две порции свеклы и два стакана семечек, я сейчас чувствую себя голодным и мечтаю о том, что, может быть, молочник удосужится принести завтра утром наконец лепешку. Звонил Л.Г. насчет денег; пока отложено до понедельника. Какая она, однако, скупая! Боже мой, как я ненавижу экономных, скупых и благоразумных людей. Я прощаю, вернее, извиняю вынужденное благоразумие тех, у кого есть какая-нибудь idée dominante, тех, кто не успевает заботиться о деньгах и еде и у которых поэтому все идет благополучно в этом отношении. Но я ненавижу сознательный расчет, сознательное благополучие. И несмотря, например, на то, что я знаю о том, что то, что я продал карточку, может быть названо опрометчивым и глупым, несмотря на это — я не жалею о совершившемся. В конце концов, учатся на ошибках — может, я научусь ценить хлеб благодаря этой продаже карточки — 10 дней я буду лишен его. Но вообще я не привык думать о будущем, на будущее мне наплевать, оно совершенно неизвестно. Грань, определяющая разницу между ролью самостоятельных действий самого человека и ролью посторонних сил, — эта грань мне совершенно не ясна. И я склонен думать, что сейчас, plus que jamais, особенно сейчас основную роль в определении судьбы человека играют эти непредвиденные обстоятельства: Война, Нужда в Рабочей силе и пр. И это очень неприятно — сознавать такую ничтожность удельного веса наших решений в определении нашей собственной судьбы. Действительно, прямо-то какие-то игрушки. Нет, скорее бы кончилась эта война; я уверен, что все же жизнь будет лучше, когда будет мир, чем когда идет война. Война — это страшный бред. Но я боюсь, что она затянется. «Война будет длиться больше, чем это могло бы показаться на первый взгляд», — заявил Cordele Hull. А он-то человек авторитетный и знает, de quoi il retourne. Поступивши в институт, мне уж не удастся уклониться ни от работы на заводе, ни от отъезда на работы. В школе еще могут разговаривать, а в институте дело обстоит посерьезнее, и всякие деканы и прочая и прочая вряд ли идут на соглашение. Да вообще mon avenir, даже самое ближайшее, подернуто густейшей пеленой гнуснейшей неизвестности. Несмотря на то, что я не работаю, я считаю, что мне приходится трудно. История с хозяйкой, беспрестанные хлопоты о жратве, отсутствие родных и друзей, всепоглощающая скука, отсутствие любимого дела, отсутствие конкретных перспектив будущего да такой handicap для понимания окружающих явлений, как длительное пребывание за границей — все это делает мою жизнь ненормальной и тяжелой. Хорошо хоть то, что завтра — обед у П.Д. Думаю, что надоел я ей. Хе-хе, еще неожиданно в кармане нашел 10 р. Пригодятся. Э-эх, как хочется, чтобы завтра утром молочник принес лепешку! Я взял бы стакан молока и стал бы есть куски лепешки, намазывая их топленым маслом! Как было бы хорошо, если он принесет! Уже скоро спать пора. Написал письмо Але. М.М. жарит макароны; фу, как хочется есть!
Георгий Князев, истрик-архивист, 56 лет, ответственный работник Архива АН СССр, ленинградец в эвакуации в Казахстане (Боровое):
20 марта.
Попался мне в руки сатирический журнал «Крокодил» за январь—февраль 1943 года. Очень ответственное дело рисовать карикатуры на военные события. Все просмотренные мною рисунки и текст не удовлетворили меня. Все они и текст к ним были изготовлены после успехов зимней кампании и пленения германских дивизий под Сталинградом, но до падения Харькова. Некоторое чувство неловкости я всегда чувствую в таких случаях, когда вижу изображение каких-либо событий в таком виде, что, перевернись страница, даже строчка истории, и что высмеивалось у другого, высмеивается противником у тебя. Но агитационное значение некоторые рисунки и текст все же могут [иметь] успех в массах. Из всех рисунков более других произвел на меня впечатление забинтованный, исполосованный, с кровоподтеками разных «колеров» на лице немец из-под Сталинграда или других мест, откуда его выбили пушки нашей артиллерии. Рисунок имеет подпись: «Продукция самоцветов Урала налицо». Но красочное выполнение Бор[ису] Ефимову менее удается, чем штриховое исполнение. Есть еще один или два рисунка, удачных по изображению, прислужников Гитлера—Петена, Лаваля и других.
Ко мне подошел А. С. Орлов. Давно не виделись, хотя наши комнаты почти рядом. «Буду жаловаться прокурору, — обратился он ко мне. — За прошлый год не выплатили за четыре месяца... Подсчитал уведомление и вижу, что нехватка. Никакого порядка. Тоже, когда ехали в поезде, академикам полагалось по пять плиток шоколада, а нам пришлось по полторы... Куда делся шоколад? Безобразие!» Мне стало невыразимо скучно и тошно.
В январе—феврале, после наших побед, заговорили о том, что все живущие в Боровом академики будут перевезены в Москву. Теперь, после потери Харькова, снова замолчали об этом. Пришли газеты. Сталин — маршал. Значит, теперь и он ничем не будет отличаться по своему костюму. Мы же так привыкли к его демократическому платью. В. И. Вернадский в ознаменование заслуг перед наукой получил орден Трудового Красного Знамени. Он не оставляет мысли уехать в Америку. Я принимаю все меры, чтобы организовать запись его воспоминаний. Он все еще колеблется.
С. А. Зернов получил телеграмму об отправлении своих вещей из Ленинграда в Ашхабад и волнуется: он никуда не хочет уезжать из Борового. Фрейман уже окончательно определил, что возвращаться в Ленинград можно будет не ранее 1944 года. Что он сейчас делает, не знаю. Его племянник, семнадцатилетний юноша, взят в армию; также и сын Баранникова. На нашем «корабле» остались только мальчики и девочки. Врач-администратор, так плохо встретившая нас осенью, смененная комиссией, приезжавшей из Алма-Аты, покинула наш «корабль». Никто не пожалел, точнее, мало кто пожалел об ее отъезде. Она очень угождала одним и не обращала никакого внимания на других.
С большой тревогой ожидаем будущего. Слишком сильно напряжение страны! И не только у нас — во всей Европе.
И все так просто со стороны: экономика перекрыла политические формы и ломает их. Ломает самым жестоким и варварским способом — войной. Всегда так было и долго еще будет, до тех пор, покуда не образуется мировая федерация трудящихся с единым мировым правительством. А покуда мы живем в очередной и страшной по размерам и чудовищности преступлений кровавой войне народов. Забравшись сюда, в оазис, я сбоку, со стороны, смотрю на совершающиеся события. Они потрясающе грандиозны, и я не постигаю их; я только присматриваюсь, прислушиваюсь. Пред[о] мной из глубины встает прошлое и проходит настоящее...
Вот я опять за страницами мировой истории. И отсюда, из оазиса, и современность мною воспринимается как история. А что такое история? Это осознание настоящего.
|
|
</> |

 Карьера продакт-менеджера: комплексный путь профессионального роста от обучения по Mini MBA в Москве до практического применения навыков
Карьера продакт-менеджера: комплексный путь профессионального роста от обучения по Mini MBA в Москве до практического применения навыков  В активном поиске.
В активном поиске.  Тень от решетки моста
Тень от решетки моста  Бурятский рабочий нож от Жигжита Баясхаланова
Бурятский рабочий нож от Жигжита Баясхаланова  Сказочные иллюстрации Светланы Ким
Сказочные иллюстрации Светланы Ким 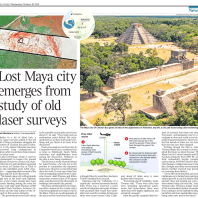 Затерянный город майя найден при изучении старых лазерных снимков
Затерянный город майя найден при изучении старых лазерных снимков  Мастера советской карикатуры. 50 рисунков Михаила Черемных
Мастера советской карикатуры. 50 рисунков Михаила Черемных  В самые страшные моменты три наших главных города были обнесены этой иконой.
В самые страшные моменты три наших главных города были обнесены этой иконой. 



