Введение в прикладную футурологию. Часть первая
 anlazz — 09.02.2021
anlazz — 09.02.2021
 Позавчера у меня
вышел пост , посвященный текущей политической ситуации.
Где было показано, что же в современной российской политике так и
не удается создать «образ будущего», вследствие чего эта самая
политика существует в очень глубоком кризисе. Поэтому имеет смысл
написать о том, как же можно создавать этот «образ», и каким он
должен быть для того, чтобы стать реальным образом будущего, а не
отвлеченной сказкой. Разумеется, в прошлом посте об этом так же
говорилось: для того, чтобы это произошло, необходимо основывать
свои предсказания на анализе реальных исторических процессов. Тех
самых «длинных трендов», которые, собственно, и определяют развитие
цивилизации. Впрочем, подобный момент выглядит довольно очевидным –
хотя существует множество людей, которые никаких трендов не
признают, рассматривая любую ситуацию с т.з. «здесь и сейчас». И
рисуя будущее исключительно, как продленное настоящее.
Позавчера у меня
вышел пост , посвященный текущей политической ситуации.
Где было показано, что же в современной российской политике так и
не удается создать «образ будущего», вследствие чего эта самая
политика существует в очень глубоком кризисе. Поэтому имеет смысл
написать о том, как же можно создавать этот «образ», и каким он
должен быть для того, чтобы стать реальным образом будущего, а не
отвлеченной сказкой. Разумеется, в прошлом посте об этом так же
говорилось: для того, чтобы это произошло, необходимо основывать
свои предсказания на анализе реальных исторических процессов. Тех
самых «длинных трендов», которые, собственно, и определяют развитие
цивилизации. Впрочем, подобный момент выглядит довольно очевидным –
хотя существует множество людей, которые никаких трендов не
признают, рассматривая любую ситуацию с т.з. «здесь и сейчас». И
рисуя будущее исключительно, как продленное настоящее.Скажем, большая часть т.н. писателей-фантастов делает именно это. Впрочем, в данном случае, футурологическая точность не нужна – нужны художественные достоинства произведения, которые лучше всего проявляются в случае использования привычного антуража. (Например, как это случилось с произведениями братьев Стругацких, которые взяли футурологическую модель Ивана Антоновича Ефремова, и наполнили ее «лучшими из своих современников».) Однако надо понимать, что это преимущество – довольно специфическое, и даже в пределах «чистой литературы» работающее довольно условно. (Скажем, тот же Ефремов прекрасно работал именно с образами будущего – и на популярности его это не сказывалось.) В случае же более «серьезной» футурологии концепция «продленного настоящего» оказывается просто непригодной. (Достаточно вспомнить все «футурологические прогнозы» недавнего прошлого, основанные на идее «потребительского рая» - который очевидно закончился в 2020 году.)
Поэтому, все же, обратимся к указанным выше «длинным трендам» - анализ которых, собственно, и составляет «реальную» футурологию. Т.е., возможность предсказания того, куда может «двигаться» имеющаяся социальная система, а так же – какие возможности имеются для того, чтобы как-то корректировать данное движение. (Кстати, с пониманием, что эти «возможности коррекции» отнюдь не бесконечно.) Разумеется, тут можно было бы начать с еще более фундаментальных вещей – не просто от «длинных», но от «сверхдлинных» трендов. (Некоторые исследователи - как тот же Назаретян со своей «Универсальной историей» - кстати, попытались сделать именно это. Хотя и не слишком удачно.)
Но, ИМХО, сверхдлинные тренды – т.е., тренды, длительность которых превышает время существования человеческой цивилизации в целом – можно опустить. (Тем не менее, замечая их проявление в более коротких процессах) И начать рассмотрение с «движений», которые сравнимы по «времени жизни» с временем существования отдельных обществ. Что же мы имеем в этом диапазоне? А имеем мы несколько вполне «выделяемых» социальных изменений, которые, при этом, имеют много общего. Например, в плане уже рассмотренного повышения цены труда, которое фиксируется где-то с начала-середины позапрошлого столетия – с эпохи буржуазных революций – но наиболее ярко проявляется с 1917 года. (Т.е., с момента революции социалистической.) Об этом, впрочем, уже был написан целый цикл постов, и поэтому подробно рассматривать этот тренд нет смысла.
К этому тренду примыкает – а точнее, оказывается тесно связанным с ним – тренд на повышение того, что можно назвать «осмысленностью труда». Я специально не употребляю в данном случае слово «отчуждение», поскольку с ним дело обстоит несколько по-иному. (О данном моменте будет чуть ниже.) «Осмысленность» в данном случае будет точнее, поскольку речь идет о повышение рациональной компоненты в трудовом процессе. Дело в том, что изначально труд – как и любая иная человеческая деятельность – осуществлялся, в значительной мере, «неосознанно». То есть, работающий человек подчинялся неким магическим (мистическим) правилам и традициям, в которых была зашифрована применяемая технология. Например, сельхозработы определялись «жизненным циклом» духов или божеств-покровителей, которые – по верованиям крестьян – и давали возможность получения урожая. То же самое было во всех остальных отраслях, где технические навыки переплетались с самыми странными ритуалами и верованиями, которые невозможно было отделить от «реально полезных» дел.
Разумеется, о причинах подобного мировосприятия надо говорить отдельно – поскольку тема эта важная и сложная. Тут же можно отметить только то, что – в отличие от указанного выше повышения цены труда – тут сложно найти момент, когда этот процесс стал актуальным. Поскольку он – в незначительной мере, конечно – наблюдался в течение всей человеческой истории. (С определенными откатами, конечно, но, в целом, движение это было поступательным.) Тем не менее, можно сказать, что и в данном случае XIX, а тем более, ХХ век стал для него периодом очевидного ускорения.
Вот теперь можно перейти и к отчуждению. Которое – как это не удивительно – в позапрошлом веке отнюдь не падало, в наоборот – возрастало, достигнув максимума на знаменитом «конвейере Форда». (1930 годы.) Кстати, Форд не изобрел конвейерный транспортер, однако он впервые сформулировал базовую идею подобного производственного типа: необходимость максимального разделения труда. В результате которого рабочий мог быть обучен только одной элементарной операции, что позволяло снизить его ценность, и его зарплату. Замечу, впрочем, что это снижение зарплат в действительности происходило после существенного их повышения в 1920 годах, поэтому даже фордовский рабочий из 1930 годов получал больше, нежели средний рабочий из 1910 годов. (Так что тренда на рост оплаты труда это не отменяет.)
То есть, одновременно с повышением «осмысленности» труда в том же ХХ веке происходил и рост отчуждения его. (Т.е., совершенно противоположный процесс.) Иначе говоря, в целом, участники производства увеличивали число сознательных действий, однако большая часть работников при этом должна была действовать все более автоматически. Но на самом деле противоречие тут мнимое: как уже было сказано, до этого даже при условии формально неотчужденного труда его характер определялся указанными выше традициями и ритуалами. (Находящимися, в любом случае, «за пределами доступности» человеческого разума – в глубине общественного сознания.) В этом смысле даже получение хотя бы «верхними» участниками производственного процесса – инженерами, технологами – доступа к пониманию технологии было огромным достижением.
Однако самое интересное тут даже не это. А то, что указанный выше рост отчужденности труда, связанный с ростом его разделения, имел свои очевидные пределы. В том смысле, что чем дальше шло усложнение производимой продукции, чем больше ветвился «путь» ее изготовления, тем яснее становилось то, что до бесконечности упрощать операции невозможно. Поскольку в подобном случае, во-первых, количество «постов» у конвейра вырастало на порядок. (А порой и на порядки.) А, во-вторых, необходимость контролирующих и направляющих этих «тупых работников» инстанций росла еще быстрее. (По экспоненте.) То есть, при выпуске реально сложных вещей – вроде самолетов, космических ракет или производственного оборудования – конвейер становился невыгодным. (Разумеется, речь идет не о самом транспортере, а об указанном методе разделения труда на элементарные операции.)
Понятно, что для владельцев предприятий это стало неприятным известием – поскольку, как уже говорилось, рост квалификации рабочих означал и рост их зарплат. Поэтому они попытались затормозить процесс усложнения выпускаемой продукции разными способами: через введение т.н. «одноразовых» изделий, уменьшение срока службы всего остального, в общем, через рост имитации. Однако универсальность данного пути ограничено: невозможно построить одноразовый самолет, электростанцию или завод. (На самом деле, кстати, делать подобное пытаются – скажем, те же солнечные панели есть не что иное, как «одноразовая электростанция». Но это очень плохая идея – в том смысле, что эти панели дают дорогое и нестабильное «электричество».) Поэтому процесс роста отчуждения остановился уже в 1960-1970 годах. И в дальнейшем он мог только спадать. (Разумеется, при наличии развития производственных систем.)
Поэтому, в целом, сегодня можно признать тот факт, что дальнейшее развитие производства просто обязано идти в направлении усложнения труда, снижения его отчуждения, повышения «осознанности» и соответствующего роста платы за него. Иначе говоря, развитие нашей цивилизации в настоящее время может иметь только это направление. Чего-то альтернативное – скажем, дальнейший рост специализации людей, закладываемый в их «гены» - является маловероятным. (Это даже без учета того, что реально современная генетика находится на крайне низком уровне развития. При котором даже «проектирование» животных с требуемыми качествами невозможно.) Равно как маловероятным оказывается и идея снижения уровня развития цивилизации – возвращение в XIX век, в век XVI или ниже. Поскольку все это противоречит указанным глобальным трендам, и значит – будет отброшено.
Но об этом, а равно и о том, почему же нельзя просто так взять – и деградировать – будет сказано в следующем посте. (А равно, будет сказано и о других интересных вещах.)

 QR-код на столе: как сократить время расчёта и повысить комфорт гостей
QR-код на столе: как сократить время расчёта и повысить комфорт гостей  Доброе утро!
Доброе утро!  Ещё более странный приговор
Ещё более странный приговор  Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?
Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?  «Господство в воздухе». Новая ракета изменит все
«Господство в воздухе». Новая ракета изменит все  Что в Иране лучше, чем в путистане
Что в Иране лучше, чем в путистане 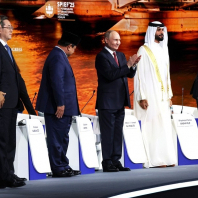 Минутка ненефтегазового экономического оптимизма
Минутка ненефтегазового экономического оптимизма  Уже?!
Уже?!  Но так ли хорош стал мир?
Но так ли хорош стал мир? 



