Воскресный мемуар — 1
 lady_tiana — 12.02.2024
lady_tiana — 12.02.2024
Я родилась в середине шестидесятых, в достаточно типичной по тем времена семье. Мама и папа были обычными советскими младшими научными сотрудниками, жившими в коммуналке с двумя бабушками и пожилой соседкой, ничего особенного. Став взрослой, я долго не могла понять, что связало воедино моих родителей – настолько разными были семьи их родителей, настолько несовместимы были их жизненные ценности.
Поэтому я начала копать вглубь семейной истории, насколько это оказалось возможно, потому что очень многие документы были или намеренно уничтожены, или сгорели во время революций и войн. Но кое-что мне найти все же удалось. И это кое-что оказалось очень и очень любопытным. Начну я рассказ с маминой семьи, она мне всегда была намного ближе.
(Маленькое отступление. Эта повесть очень много лет фрагментами появлялась в моем блоге под названием «Как олени спешат на источники вод» или просто «Олени». С годами первоначальный текст оброс новыми главами, его основной фокус сместился с психологических раскопок и самоанализа на историю семьи в контексте советской и постсоветской истории. Вторая версия выходила несколько лет в Инстаграме под названием «Воскресный мемуар». Это название я решила сохранить, добавив в повесть еще несколько новых глав и иллюстрации.)
Будрины — Николаевы
Итак, мы начинаем в середине девятнадцатого века, когда дворянин Гаврила (Гавриил) Поплавский, польский шляхтич, был сослан в Сибирь за участие в восстании против царя. Точный год мне бабушки не называли, но из общих соображений получается, что речь идет о восстании 1848 года. Пан Гаврила был лишен всех званий, титулов и земель и отдан в крепостные.
В Сибири он провел много лет и, судя по всему, женился на местной крестьянской девушке. Теоретически по тогдашним законам он должен был принять православие, чтобы все его потомки тоже воспитывались как русские православные. Но не исключено, что он венчался альтернативным порядком (такое в порядке исключения иногда случалось). То есть, брак заключался в православной церкви, при том, что один из супругов оставался католиком или протестантом, но дети должны были обязательно воспитываться в православной вере.
Как бы то ни было, дочь его Домникия или Доминика всегда считала себя полькой и католичкой. Домникия была юной девушкой, когда в 1861 году произошла отмена крепостного права, и она получила вольную. Семейная легенда, гласит, что она вышла замуж очень молодой и рано овдовела, оставшись с маленьким сыном на руках. Вскоре после этого друг и деловой партнер ее мужа женился на ней, усыновил мальчика и перевез семью в Москву.

У меня есть большие сомнения, что на самом деле все обстояло именно так, потому что в семейных архивах нет ни фотографий Домникии с первым мужем, ни каких-либо документов, упоминавших его имя. Напротив, архив, в том числе и фотографический, связанный с Яковом – ее вторым мужем, был достаточно обширен.
И еще несколько моментов заставляют меня подозревать, что эта история была не настолько прозрачной и идиллической, как мне о ней рассказывали. Во-первых, мой прадед Константин Николаевич был подозрительно похож внешне на своего отчима Якова Яковлевича Будрина. Во-вторых, я знаю, что до революции незаконнорожденных детей обычно крестили таким образом, что у них совпадали отчество и фамилия, а прадеда звали Константин Николаевич Николаев И, в-третьих, обстоятельства и спешность отъезда в Москву тоже вызывают много вопросов.

Было еще кое-что – тот неуловимый флер смущения и умолчания, которым всегда были окутаны семейные рассказы про самое старшее поколение. Я с раннего детства была ребенком очень чувствительным и ловила тончайшие нюансы интонаций в рассказах взрослых. А в рассказах про прапрабабку я всегда ощущала какое-то умолчание и легкую неловкость рассказчиц.
Одним словом, есть у меня версия, что Константин таки был родным сыном Якова, но родился до венчания родителей, отсюда и отъезд в Москву, и легенда про благородного друга семьи, пригревшего юную вдову и сироту. Впрочем, все это совершенно не важно. А важно то, что в начале восьмидесятых годов позапрошлого века Яков, Домникия и Костя поселились в Москве, и вскоре Яков Яковлевич стал известным свадебным кондитером и домовладельцем.

Он сдавал в наем квартиры и залы для балов и свадеб, и при этом не чужд был и благотворительности — с бедняков не только не брал платы, но и выставлял от себя свадебное угощение. Понятное дело, при таком подходе больших капиталов он не скопил, в мироедах не числился, потому и в Революцию сильно не пострадал. Насколько я понимаю, среди подопечных Якова Яковлевича был и художник Саврасов.
У нас дома хранился один из его этюдов, написанный явно под конец жизни. А Саврасов, как известно, страдал тяжелым алкоголизмом, совершенно обнищал и жил исключительно за счет помощи московских меценатов, которым он в знак благодарности дарил свои наброски.
Яков Яковлевич всю жизнь до самозабвения любил жену, с которой прожил почти сорок лет, и сына. Во время Первой Мировой войны старики Будрины опекали госпиталь, где лечились раненые воины.

Скончалась Домникия Гавриловна в дни февральской революции. Яков Яковлевич с горя на некоторое время помутился рассудком, раздал в память о покойной почти все ее украшения, оставив только три кольца (по одному каждой внучке), потом понемножку пришел в себя.
Естественно, после октябрьских событий от его кондитерских и следа не осталось, спасибо, старика не тронули. Он даже служил где-то мелким чиновником или бухгалтером и умер в двадцать пятом году, пережив супругу на восемь лет.


Примечание 2024 года
Этот рассказ об истоках семейной истории я пересказывала со слов бабушек, поскольку никаких документов, кроме приглашения на свадьбу Константина Николаевича и его предреволюционного паспорта, в семье не сохранилось. Он все сжег в черном 1937-м, чтобы ни малейших следов прошлого не осталось.
Меня всегда интриговало, что же за тайны исчезли в том огне. И я никак не могла понять, что и как могло в юности связывать Константина Николаевича и Славу Скрябина, известного всему советскому народу под именем Вячеслава Михайловича Молотова. А бабушки рассказывали, что знакомство было настолько добрым, что Молотов даже помог нашей семье избежать уплотнения, когда власти попытались это сделпть в первый раз.
Я вдоль и поперек перелопатила биографию Молотова, но до революции никаких точек пересечения не было точно, география не совпадала. А сегодня я попыталась посмотреть на все факты под немного другим углом зрения, и вот какая любопытная картинка нарисовалась.
— Молотов родился в Вятской губернии.
— А этой же губернии издавна была очень разветвленная священническая семья Будриных. Более того, сама фамилия «Будрин» происходит от тамошнего локального термина «будора» — сеющий беспокойство.
— В Вятскую губернию поляков ссылали на протяжении всего 19 века.
Так может, никакой Сибири и не было, а была Вятка? И прадед, как и многие другие мои родственники, фальсифицировал место своего рождения и скрыл родство со священниками, многие из которых были к тому времени репрессированы?
Боюсь, подтвердить эту версию будет непросто, но такой вариант мне кажется более непротиворечивым, чем сибирская версия.
|
|
</> |

 Сила рекламных SMS: как короткие тексты влияют на большие решения
Сила рекламных SMS: как короткие тексты влияют на большие решения  Royal Ascot 2025. День 1.
Royal Ascot 2025. День 1.  по берегу моря вдоль пустынных пляжей...
по берегу моря вдоль пустынных пляжей...  Выходное платье Фроси Бурлаковой / "Приходите завтра" (1963)
Выходное платье Фроси Бурлаковой / "Приходите завтра" (1963) 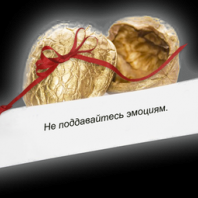 Без названия
Без названия  Луноход. Продолжение 2.
Луноход. Продолжение 2.  Барон хороший человек, но...
Барон хороший человек, но... 



